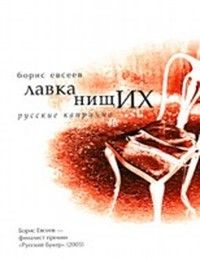Сарик-джан в Москве уже без малого двадцать лет.
Но привыкнуть никак не может. Родственники суетятся, торгуют, ездят отдыхать на озеро Севан. А он – нет. Он никуда не ездит, потому что ему нужен только один город. Но съездить туда, где родился, где теперь неулыбчивые чужие люди и не осталось, по слухам, ни одного армянина – он не может.
Раньше Сарик-джан был сапожником. Очень хорошим сапожником. Теперь он глава преуспевающего семейства и никем не работает. Да и какие сапоги, какие туфли-лодочки – в пятьдесят с лишним лет!
Сапожником он быть перестал, а человеком остался. И только один дудук оставаться человеком ему, кажется, ипомогает.
Но это сейчас дудук – главное. А двадцать лет назад, переехав в Москву, Сарик-джан о дудуке, на котором выучился играть еще в детстве, и вместе с которым его еще в конце 70-х приглашали в ансамбль армянской народной музыки, – и не вспоминал.
Да и до того ли было! Город огромный и шумный, город наполненный акающей речью, город, разъедающий дымом нежные слизистые оболочки, – пугал его. Тихо передвигаясь от лотка к лотку, он дышал, как вынутая из Каспия рыба, брошенная на кипящий маслом московский противень.
И только вечерами испуг проходил. Прохлада и умиротворение, опускавшиеся на Москву, опускались и на Саркиса.
Вскоре поверх жары и прохлады нарисовались два контура. Один – ломкий, засушенный, тонконогий; другой – с гривой волос, с изломанной какой-то болезнью спиной: русские, как и он, переехали с юга, с Кавказа.
Русских звали Семен и Савва. Они тоже были слегка придавлены Москвой. Но быстро нашлись: сойдясь на богатом привкусе коньяка «Ани», стали крепко – конечно, после работы – поддавать.
Это Семен стал звать его так ласково и завораживающе: Сарик-джан. И сперва Сарик-джан тоже пил (или – «вкушал», как говорил все тот же длиннющий, латаный-перелатаный Семен) вместе с ними. Но потом не выдержал, отвалился.
Говорливый Семен и молчащий Савва в таинственном сумраке московских ночей – а скорей, в огромной бочке коньяка «Ани» – растворились.
Сарик-джан остался один на один со своим испугом, с суетливыми и куда-то – уже совсем по-московски – вечно спешащими родичами, с великой и устрашающей пустотой впереди.
Тут-то он и вспомнил о старинном, с девятью отверстиями и двойной тростью, которую так приятно смочить губами, дудуке.
В деньгах Сарик-джан не нуждался. Не нуждался он и в одежде. Терпел даже жесткие, с неправильно рассчитанным подъемом и неудобным задником, туфли фабрики «Заря».
Ему ничего не нужно было!
Но слушатели ему были нужны. Дома внуки врубали «металл» и «рэп». Сперва Сарик-джан пытался в своей комнате тихонько этой музыке подыгрывать. На дудуке. Потом понял: выделанный словно из цельной человеческой кости и обернутый трепетной кожей дудук с «металлом» никак не сочетается.
Дудук был живой, «металл» – мертвый.
Сарик-джан устроился играть в ресторан. Сперва в русский, потом почему-то в латиноамериканский. Там слушали, свернув деньги трубочкой, пытались вставить их в отверстие дудки, хлопали по плечу, прищелкивали пальцами. Но настоящего понимания звука в этих ресторанах не было.
Как-то в случайном разговоре выскочил вдруг ресторан «Бакинский дворик». Сарик-джан хотел ехать туда немедля, сразу же. Но поостерегся: в «Дворике» хозяйничали враги, азербайджанцы.
Прошел год.
Сарик-джан боялся и унывал, но поехал.
Один раз в ресторане ему сыграть удалось.
Когда замолкла электрическая скрипка, он вдруг поднялся из-за столика, вынул из хозяйственной сумки дудук, взошел на маленькую эстраду и сыграл песню. Какую-то песню 30-х годов. Он забыл, что это была за песня, но точно помнил: не армянская и не азербайджанская. Песню он уснастил богатым орнаментом и завершил длинным низким звуком. Такой звук он слышал когда-то ночью во время отлива: Каспий уходил, его место занимала тьма.
Звук уходящего моря и наплывающей тьмы он и сыграл.
Его вежливо выслушали и так же вежливо – «мы же культурные люди» – указали на дверь.
Больше Сарик-джан в ресторан не заходил. Иногда только, приоткрыв дверь, заглядывал, чтобы поймать ноздрями запах настоящего бакинского кебаба.
У ресторана Сарик-джану играть никто не запрещал. За дверью ресторана земля была московская.
Сарик-джан стал через день играть возле ресторана.
Стояла дивная московская осень.
Она стояла уже третий месяц и никуда не собиралась уходить. И третий месяц Сарик-джан играл у стен ресторана, который, в свою очередь был водвинут в громадный, сладко нелепый, построенный какими-то кубиками еще в начале прошлого столетия дом.
Когда проходил трамвай, Сарик-джан делал паузу. А после паузы, чтобы его лучше слышали, подходил ближе к дверям. Денег он не брал. Если подавали или клали рядом, прервав игру, вежливо отказывался. Он играл и ему было хорошо. Однако чего-то и не хватало.
Вскоре Сарик-джан понял: ему не хватает второго голоса.
Этот мальчик появился неожиданно. Он три дня стоял рядом, три дня слушал. Кажется, он не умел говорить по-русски. Поэтому через три дня показал рукой: хочу играть.
Даже не особо присматриваясь, Сарик-джан понял. Этот неохотно разговаривающий мальчик кого-то ему напоминает.
И тогда он вспомнил один из эпизодов своей давно прошедшей, а может быть, уже и давно закончившейся жизни.
Вспомнил смерть одной знакомой девушки, вспомнил, как кручинился несколько лет.
Девушку звали Айгуль. Она была азербайджанка. Жила – не то, чтобы близко от Саркиса, но и не слишком далеко. Айгуль любила гулять по набережной близ нефтяных пятен и бирюзового моря. Однажды она любовалась мачтами сухогруза и поднятой им мелкой, цветной от нефти волной. Сарик-джан подошел, и они познакомились.
Была весна, середина мая.
– Ты предаешь свой народ, – говорили Саркису родственники. И еще:
– Это так же противоестественно, как если бы человек любил ослицу. Ты можешь с ней – с ослицей – забавляться, но любить ее не смеешь, нет!
Даже говорили:
– Выкинь эту несчастную из головы, а не то мы вышвырнем тебя из дому.
Но выкидывать не пришлось.
Ровно через месяц девушка Айгуль утонула. До 19 лет ей не разрешали купаться в море. Наконец, разрешили, она поехала с подругами в Шихово и там в первый же день утонула.
Было тогда Саркису двадцать семь. Следующие восемь лет прошли в неясном томлении. Наконец Саркис женился. А через четыре года грянули бакинские события. Пришлось вместе с двумя малыми детьми, минуя выставленные у аэропорта танки, минуя зевачий – сперва развеселый, а потом разъярившийся – люд, бежать на Север.
Началась другая, вовсе не схожая с прежней жизнь.
Сыновья рано женились. Пошли внуки. Все привыкли, а Сарик-джан – нет.
И вдруг теперь – этот мальчик. Нежностью движений и желтовато-оливковым лунным лицом он был похож на Айгуль, мог быть его внуком. Сарик-джан гнал от себя эту мысль, как недостойную ни его самого, ни его многострадального народа.
Но до конца избавиться от мысли не мог.
На следующий день Сарик-джан принес к ресторану второй дудук. Для мальчика. Однако никакого учения в тот день не вышло. Мальчика заперли в ресторане, где он прислуживал, и выходить не велели.
Так прошло три дня. Сарик-джан играл, делал перерывы, опять играл. И все время поглядывал на длинную сумку с торчащими вверх ручками, в которой хранился второй дудук.
Через три дня мальчик кое-как спустился из окна второго этажа, подбежал к Сарик-джану, улыбнулся и сразу протянул руку к лежащему в сумке второму дудуку. Он ухватил инструмент одной рукой и, смешно надувая щеки, стал что было сил дуть в него.
– Э, нет, – проворчал Сарик-джан. – Тут ведь уметь надо.
Светило солнце, по-прежнему было очень тепло. Сарик-джан прямо на улице стал учить мальчика игре на дудуке. Уже через день мальчик важно выводил один и тот же звук, а Сарик-джан завивал кольца неистребимой, как страсть, мелодии.
Музыка сразу пошла другая.
Первый дудук налегал волной, потом звук его уходил в тишину и становился как дым: истончался, пропадал.
Второй дудук тянул нескончаемую, как любовная грусть, ноту.
Первый дудук звенел трамвайной дугой, хохотал, покрякивал.
Второй – как горбатый черный баклан висел и висел над пустынной набережной.
Первый – ниспадал и развеществлялся.
Второй был бесконечен.
Первый был человеком, потерявшим кости, жилы и всю, до последнего лоскутка, кожу.
Второй – чувствовал себя молодым, вечнозеленым деревом, врастающим потихоньку в московский шум и гам...
Люди из ресторана играть не мешали. Мальчик был ничей. Хотя и своекровный. Но какой-то полунемой, туповато на все, кроме музыки, отзывавшийся. Ну а старый армян не стоил того, чтобы пачкать об него руки.
Однажды они припозднились. Играли с перерывами на пирожки и легкую уличную дрему – почти до пяти вечера. У мальчика от важности исполняемого дела высоко подымались плечи. У Сарик-джана от усталости немели щеки, сох рот, уходила слюна.