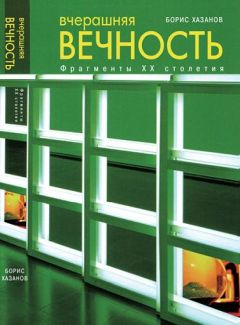Между тем как власть и могущество паспорта состоит в том, что пределы этой власти неизвестны.
Могущество постановлений заключается в их секретности. Мина, скрытая под дермантиновым переплётом, необстрелянному взгляду не видна. Но ты-то знаешь, где она зарыта: на второй страничке. Графа На основании каких документов выдан паспорт. Там, где рукою другой барышни вписано: На основании справки БО № 0004458 и Положения о паспортах. Синяя татуировка раба. Стигма государственной неполноценности.
Никто никогда не видел это Положение, и не увидит. Но это и не требуется. Существует версия – порхает слух, – что таинственное Положение вовсе не существует. Важно не Положение, а упоминание о нём.
Человек без паспорта как бы уже вовсе не человек, его имя ничем не подтверждено, его происхождение никак не удостоверено, у него нет возраста, нет профессии, нет национальности, нет даже пола: он никто, вот он кто. Отсутствие паспорта не может быть восполнено другими бумагами – справками, удостоверениями, дипломами, аттестатами; напротив, делает обладание ими подозрительным и преступным. Невозможно и поселиться где бы то ни было, ибо нет документа, на котором можно оттиснуть соответствующий штамп. Могущество паспорта даёт себя знать в полной мере, когда паспорт отсутствует.
Однако паспорт паспорту рознь. Когда-то нужно было скрывать незаконнорожденность, марающий честь поступок, разорительные долги или дурную болезнь. Теперь надо скрывать пометку в паспорте. Она как глубоко в теле созревший гнойник, от которого время от времени сотрясают приступы лихорадки, но удалить его невозможно.
Сердце паспорта – его номер; венец всей длинной череды номеров, под которыми ты числишься в папках и картотеках различных ведомств. Государство шифров, империя номеров. Писатель спросил себя, когда это началось. Уже сто лет назад можно было сидеть, как Герман, в 17 нумере Обуховской больницы, носить на фуражке номер полка, одалживать у Федосей Федосеича дельце за № 368. Когда же мы окончательно запутались в цифровых тенётах? Номер метрического свидетельства, номер военного билета, номер ордера на арест, номер камеры, номер следственного дела, номер оперативного дела, номер и шифр комендантского лагпункта, шифр и номер справки об освобождении. Но не может быть, чтобы буквы и нумерации существовали сами по себе. Должен быть верховный номер. Это и есть номер паспорта.
Мысли проносятся мимо, как мусор на ветру; ты покоен, ты счастлив.
XXVII Соты вечного успокоения
22 июня 1955
Опять-таки не назовёшь улицей просёлок, ещё не просохший после дождей; громыхающий грузовик обдаёт прохожего грязью. На вокзале безлюдно. В гремучем полупустом вагоне сочинитель сидит у окна, ждёт, когда войдут контролёры, войдёт добровольный патруль, войдёт милиционер. В толпе пассажиров, неузнанный, не разоблачённый, он шагает по перрону Ярославского вокзала, сегодня, кстати, началась война. Он шествует по перрону, он семенит, догоняя мать, кругом колышется человеческое желе, в суматохе поспешной эвакуации, с баулами, с чемоданами, с швейной машиной они не могут отыскать свой вагон, теряют и нагоняют друг друга. Они стояли в просвете забитого людьми и вещами пульмана, ждали, искали глазами отца, и вот он протискивается, он успел прийти попрощаться. Но разговаривать невозможно, отец машет рукой. Гремят репродукторы. Над толпой, штурмующей поезда, раскатился хищно-радостный баритон. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой... Могучий хор. Ансамбль красноармейской песни и пляски. Вылетают кони шляхом каменистым. Встретим мы по-сталински врага. Солнце палит с небес, лето в разгаре. Какие там кони. Говорят, уже сдали Смоленск, моторизованное полчище катится к Москве, как океанский вал.Не скосить нас саблей острой. Где эти сабли... Отец стоит у вагона. Завтра скороспелое войско, именуемое народным ополчением, как во времена гражданина Минина и князя Пожарского, выступит в поход, через два месяца от этого ополчения ничего не останется.
Писатель... – но по какому праву ты величаешь себя писателем, не оттого ли, что история, как кто-то сказал, есть род литературы и, собственно, становится историей лишь после того, как она написана кем-то; не потому ли ты лезешь в писатели, что биография, подобно истории, начинается на бумаге, станет биографией лишь при условии, что твоя жизнь станет литературой? – писатель едет по узким ветвящимся переулкам и думает о том, что его жизнь – единственный материал, которым можно склеить распавшееся время. Соблазнительная идея. Трамвай выворачивает на главную улицу. А там уже показались башни и луковицы, он шагает вдоль крепостной стены, мимо пышно распустившихся деревьев, огромный монастырь нависает над ним из-за кирпичной ограды, снизу кажутся приплюснутыми его почернелые главы. Поодаль высокая прямоугольная труба крематория и контора. Секретарь смерти протянул руку – где ваш паспорт, как же иначе, и с привычным трепетом посетитель извлекает новенький, в серых корочках, волчий билет. Человек-лемур нацепляет очки, разворачивает книгу судеб, слюнит палец, листает страницы, водит пальцем по строчкам.
Двадцать восьмой колумбарий. Сто тысяч тонн бананов из Колумбии. Сколько-то времени провести перед табличкой, где стоят две даты и пустой овал дожидается фотографии матери. Вспомнить фантики, марки, комнату-пенал, древнее пианино, портьеру, отгородившую кровать родителей. Бедные, они даже не знали, где находится эта Колумбия. Теперь дальше. Мимо окошек с засохшими цветами, откуда выглядывают детские, юные, старые лица, с датами, с почернелыми буквами, – двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый – и ещё один, и ещё: вот он! Халдеи знали, пифагорейцы знали, мир построен из предвечных чисел. Под каким числом нам предписано покоиться в узком сосуде, за дощечкой поддельного мрамора? Не одному тебе знакомое, странно тревожащее чувство неживой жизни, которая обитает здесь, существует, не существуя, подглядывает, подслушивает, прячется там, среди кустов и холмиков по другую сторону аллеи.
Кое-где выпали таблички, в тесных нишах стоят почернелые вазы, и вот оно, наконец, в мутном овале уже покусанного алмазным зубом времени медальона жалкое, улыбающееся лицо Анны Яковлевны Тарнкаппе. Крест и надпись... ты читаешь дату её ухода. Ты стараешься вспомнить, отыскать этот день, как песчинку в песке. Где ты был, Адам? Что ты делал в тот день, что с тобой делали? Почуялось ли тебе, что за тысячу вёрст, в переулке у Красных Ворот, в комнате-келье с фотографиями, комодом, диваном, источающим запах её папирос, в эту минуту закрылись ее глаза? Чтобы потом открыть их уже здесь, на фаянсовом медальоне. Умерла ли она на своём диване или за ней тоже пришли? Смерть приезжает ночью в машине, входит в подъезд, цокает подковками по ступеням, истоптанным ногами поколений. Слава Богу, этого не случилось, ведь тогда она не очутилась бы здесь. Не было бы никакого медальона, и вообще оказалось бы, что никакой Анны Яковлевны никогда не существовало. Писатель бредёт по пустынной аллее, перед ним бежит его короткая тень, слева стена колумбария, справа грибницы крестов и надгробий. Не дойдя до ворот, оборачивается.
Он сощурился от слепящего света, там кто-то стоит, новые посетители. Приставил руку к глазам: две женщины, старая и молодая, у Анны Яковлевны в гостях. Если не она сама собственной персоной. Помедлив, он возвращается.
Она сидит на скамейке.
“Представь себе, мне показалось...”
“Что показалось?”
“Что ты стоишь с Анной Яковлевной!”
Валентина оглядывает писателя. Совсем другое дело, теперь у него человеческий вид. Где ты живёшь? Зашёл бы хоть раз. Он пожал плечами. Работаешь? Писатель покачал головой, никуда не принимают. (Он особенно и не старался. Встаёт вопрос, на что он живёт). Тишина, они сидят против 33-го отсека, и жизнь, вечная неживая жизнь витает вокруг, прячется в листве. Не хочется ехать на вокзал, возвращаться в пустое жильё из этого солнечного царства. Помнишь, проговорил он, как ты однажды пришла, Анна Яковлевна болела. Ты стояла у окна, спиной к свету, и волосы светились, как нимб.
Нет, она не помнит.
“Ты училась в театральной студии”.
“Было дело”.
“А даму в бокале помнишь?”
“В бокале? Какую даму?”
“Картину”.
“А-а, хи-хи...”
“Куда она делась?”
Она пожимает плечами, покачивает кудрями.
“Твой портрет”.
“Скажешь ещё”.
“Я это понял, – сказал писатель, – когда ты ушла”.
“Но она же голая. Сколько тебе было лет?”
“Я смотрел на картину другими глазами. Я не видел наготы. Можешь мне поверить, – он усмехнулся, – я смотрел на неё и видел тебя. Давно было дело”.
“Давно”.
Ещё посидели; он спросил: а доктора Каценеленбогена она помнит?