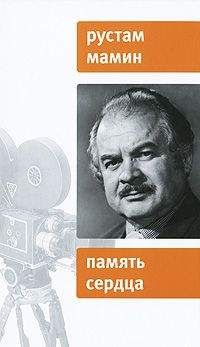А психоаналитиком, приходившим на исповедь к о. Мануилу, был врач, живший над квартирой, которую занимал Савелий Тяхт. «Жизнь длинная, а память короткая», − отмахивался он в юности, совершая очередное безрассудство. «Жизнь короткая, а память длинная», − охал в старости, ворочаясь бессонными ночами и, как угли кочергой, вороша прошлое. В детстве его пугали чёрной рукой, хватавшей из темноты, так что, когда выключали свет, он в страхе забивался под одеяло, а теперь он понял, что эта рука − память, от которой нет спасения и которая настигнет даже под землёй. Ему казалось, будто он только вчера навещал Савелия Тяхта в тёмном, пропахшем луком чулане, щупал пульс у его матери, от волнения принимая за него собственный, выкурил с ним две трубки и опорожнил две бутылки — сначала у себя, потом у него, события путались, кружась мошкарой над лампой, то сбивались в кучу, то разлетались по сторонам. Он вспоминал, как кричал Исаак, умоляя положить его в психушку, как делал ему укол, от которого мысли в голове прыгают, точно блохи, и думал, что сам, как микроб, жил от эпидемии до эпидемии, во время которых воскресал из сонного, житейского небытия, ощущая свою нужность, когда, требуя помощи, его рвали на части, а он переносил болезнь на ногах, бывая в пяти местах сразу, бегая по этажам, как во время лихорадки неусидчивости, оставаясь таким же бессильным, вспоминал, как всю жизнь выписывал лекарства, сколь безвредные, столь и бесполезные, убеждая в чудодейственности которых, загонял в постель, уверенный, что долгое лежание, став невыносимым, быстрее поставит на ноги. Вспоминал, и как давал таблетку, слепленную из подкрашенного крахмала, спрашивая потом: «Помогло?» А когда слышал: «Не очень», хлопал по плечу: «Помогло, помогло, ты просто не знаешь, что бы без неё было». Накручивая на палец длинные седые пряди, он думал, что молодость, как деньги, не сбережёшь, потому что в прошлое нет возврата. А с рассветом, когда реальность отодвигалась всё дальше, бродил во днях своего детства, когда волосы были как воронье крыло, не в силах вернуться, потому что из прошлого нет возврата. Практику он давно оставил, проводя дни на канале, кормя с руки крикливых чаек, говорил с собой, рассыпаясь иногда коротким, неприятным смехом, а вечера коротал во дворе, в беседке, попыхивая трубкой, косясь на жёлтые от никотина пальцы и сплёвывая между ног. Издалека, как за сойками в лесу, он наблюдал оттуда за молодёжью — боясь спугнуть, слушал их весёлое щебетанье, изредка подкармливая пивом с бутербродами, слушал их музыку, певцов, бывших для них кумирами, и думал, что при правильном развитии всё, чему поклоняешься в молодости, оказывается ерундой, приносящей разочарование.
− А при неправильном? − спросили его со смехом, когда он имел раз неосторожность высказать свою мысль.
− При неправильном? − повторил он, и было видно, что вопрос поставил его в тупик. — Действительно, а при неправильном?
Он ещё минуту с глупым видом чесал затылок, а потом удалился под дружный хохот. Врача звали Марат Стельба. Он давно жил, подчиняясь численнику, а во дворе ждал сына Авессалома, с которым не мог встретиться в одной квартире.
Плоскогрудая девушка с родинкой под левым соском, с которой Авессалома застал отец, была одной из сестёр-близняшек, торговавших собой на углу. Она ему понравилась, и на другой день Авессалом постучал к ней в дверь, а, когда открыли, поздоровался, будто старый приятель, назвав её по имени. Его девушки дома не было, а сестра не подала виду, что он ошибся, не желая упустить клиента, и, взяв его за руку, положила с собой. С тех пор так и пошло: сёстры подменяли друг дружку, а он спал попеременно с обеими, не различая ни родинок, ни белевших шрамов, ни приёмов в любви. А когда обман вскрылся, сделал обеим предложение.
− Ты что же, зороастриец? — не выдержал Марат Стельба, услышав эту новость во дворе.
− Это которые огню поклоняются?
− И на сёстрах женятся.
− Ну, не всем же по численнику жить.
− А при чём здесь это?
− При том! Не забывай, чей я сын.
− Что же, ты не мог приличную найти? Благовоспитанную…
− Благовоспитанную ханжу? — перебил Авессалом. — Подавленную нимфоманку? А дай ей волю, занималась бы любовью у всех на виду, открыто, как это делают звери? − Но Авессалом не верил в то, что говорил, просто ему хотелось досадить отцу. − И не дрейфь, в богадельню не отдам, будешь внуков нянчить, хоть на что-то сгодишься.
− Рано хоронишь! — вспыхнул Марат Стельба. — А может, одну уступишь?
− Выбирай!
И, долго не раздумывая, Марат Стельба посватался к той, которая открыла дверь. Но сёстры отказали. Обоим. «Сначала за сынка расплатись, старый хрыч!» − неслось вслед Марату Стельбе, когда невидимая рука спустила его с лестницы. Он пересчитал все ступеньки, все двери, за одной из которых сыну Саши Чирина, Прохору Чирина-Голубень, за обедом Нестор втолковывал свою житейскую мудрость.
− Вот Савелий Тяхт не покидал чулана — и правильно делал! Выбраться за канал? За горизонт? А что там можно увидеть? Исаака Кац за океан увезли, а чем кончил? Если счастья нет рядом — нигде не найдёшь!
− Внутри, − поправил Прохор, уплетая за обе щеки галушки в сметане. И Нестор опять подумал, что не ошибся в нём.
− Ты приходи, − сказал он на прощанье, − мне нравится этот треск.
− Какой? — удивился Прохор.
− Ну, когда едят так, чтобы за ушами трещало.
Как и для Савелия Тяхта, внешний мир для Нестора ограничивал дом, который, слившись с ним, стал уже его внутренним миром, где он изучил всё до мелочей: стуки, скрипы, выщербленные ступеньки, грохот железных дверей, у каждой — свой, знал в лицо всех старожилов, легко находил с ними общий язык, ориентируясь с помощью своей запредельной интуиции в человеческих страстях, как рыба, раздвигающая их водоросли, чтобы плыть к заветной цели: устроить свою маленькую вселенную, противопоставив её злому искривлённому пространству, маячившему на горизонте. С этой целью он отсекал в своей оранжерее всё лишнее, как садовник — засохшие ветки, уподобляясь Богу, недаром создавшему его по Своему образу и подобию. Савелий Тяхт, беспомощный созерцатель, как инвалид, которого выгуливали в коляске, оставался ему глубоко чужд: его натура жаждала деятельности, которую он отождествлял с добродетелью. И в этой деятельности он видел миссию домоуправа. А с некоторых пор ему, как и Савелию Тяхту, не покидавшему дом, стало казаться, что за его пределами зияет бесплодная, всепоглощающая пустота, которая, как Харибда, с открытой пастью стережёт каждый шаг, мечтая растоптать и пожрать жильцов. Нестор хотел поделиться этими ощущениями с батюшкой Никодимом, но всё откладывал, боясь, что, не встретив понимания, получит совет не выделять свою вселенную во Вселенной Творца. Полагая, что семинария заставит Антипа повторять заученные истины, сделав догматиком, о. Мануил ошибся: став батюшкой, тот не утратил былой искренности и свободомыслия. После семинарии его постригли в монахи, но он пришёл в монастырь со своим уставом, и от него быстро избавились, направив по месту жительства — служить в хорошо известную ему церковь. Собрав за ушами волосы в «конский хвост», батюшка Никодим облачался дома в рваный халат, был до дерзости смел, позволяя лексику, далекую от богословской.
− Прогресс? Дали волшебную палочку, а мы ею − по голове! − развалившись в кресле, проповедовал он зашедшему в гости Нестору. — Раньше ходили на угол к близняшкам, а теперь мастурбируют под интернетовское порно. А жёны? Заглядывали в чужие постели, как в кастрюли на коммунальной кухне, судачили по углам, а теперь молча пялятся в глянцевые журналы, как в замочную скважину. Лучшие умы бьются, как интереснее показать трусы! Раньше их только жена видела, а теперь — весь белый свет.
«И род приходит, и род уходит, − закинув ногу на ногу, думал Нестор. — Из поколения в поколение всё повторяется, точно в калейдоскопе, с той только разницей, что при каждом повороте изнашивается зрительная труба».
− Я телевизор не смотрю, − заметил он вслух.
− И я, признаться, в дерьме не купаюсь, − ехидно парировал Антип. — Но дом-то весь в тарелках! Нет, прогресс как раковая опухоль, которую не остановить! Мы его недостойны, и когда-нибудь это всё плохо кончится. — Он плотнее запахнул халат, прикрывая дырки. — Посади обезьяну за руль — до первого столба! А власть? Раньше дубина правила, теперь — бумажки.
− Бумажки? — встрепенулся Нестор.
− Ну да, купюры, векселя. Удобно! За дубину-то видно, кто держится, а так — счастливое неведение. — Он сердито фыркнул — И весь прогресс! А другого мы не достойны.
− И как ты с такими мыслями служишь?
Антип преобразился, грозно надвинувшись, превратился в батюшку Никодима, в его взгляде засквозила семинария:
− А вот так!