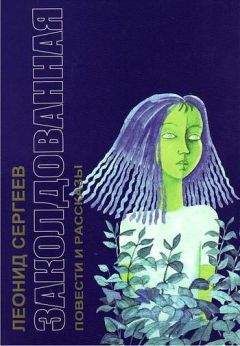Лишь повзрослев, я понял секрет успеха таких людей, как дядя, — оставаться самим собой. Как только я отбросил напускные маски, сразу стал со всеми ладить. Даже с девчонками. Но особенно со старушками, потому что всегда знал все новости и был как никто болтлив. Кстати, та бабушка грибница, за которой я когда-то следил, в конце концов стала моим самым благодарным слушателем. Я сочинял ей такие небылицы, что у самого захватывало дух, но она всему верила.
В то время, поскольку я не расставался с рогаткой, я зарекомендовал себя живодером, но на самом деле это было не так. До школы я действительно стрелял птиц, но по мере взросления, все больше переходил на неживые мишени. Лет в пятнадцать и вовсе впал в сентиментальность — мне стало жалко рвать цветы и ловить насекомых. Правда, в это никто не верил. Все считали, если я не убиваю в данный момент, это еще не значит, что навсегда покончил со своими замашками. Мою мягкотелость рассматривали как некую передышку, как обдумывание новых планов насилия. Обо мне уже сложилось определенное мнение, и его не так-то просто было изменить. А мне ничего не оставалось, как поддерживать репутацию мальчишки с каменным сердцем. На людях я храбрился: обрывал цветы, ловил лягушек и жуков, запихивал их в коробки и банки, а потом, без свидетелей, ставил цветы в воду, а пленников выпускал на свободу.
В жару нашу улицу охватывала мягкая дремота: все открывали окна и двери и водой поливали полы для прохлады. В пустынные комнаты с палисадников текли запахи цветов, с террас — запах дозревающих на солнце помидоров, со дворов — запах смолистой поленницы дров, влажной земли из-под крыльца… Я любил лежать в тени за домом в высокой прохладной траве, смотреть, как летают бабочки-лимонницы, мелькают стрекозы и шмели; слушать, как где-то выбивают коврик, где-то лает собака, а на окраине позвякивает трамвай. Оттуда, из тени через окно, я видел, как мать резала овощи для борща, стирала белье на доске, гладила…
Иногда я думал, когда вырасту, у меня будет огород и сад, и будет столярная мастерская, и жена будет, чтобы кто-то заботился обо мне. А жить я предполагал на чердаке, как дядя. Дядя являлся для меня образцом для подражания, я любил его больше матери и отца. Да и как его было не любить, если он с радостью поддерживал все мои начинания?! И не просто поддерживал, а расцвечивал новыми красками, наполнял смыслом. Стоило мне подбежать к нему и предложить запустить змея, как он тут же принимал серьезные вид.
— Ни слова больше! Все понял. Значит, так! Немедленно беги клей змея. Как только допишу картину, сразу запускаем.
Дядя никогда не говорил со мной присев на корточки, то есть не сюсюкал и не иронизировал, не сохранял дистанцию между собой и мной, как это делало большинство взрослых — уж не говоря про их занудливые нравоучения. Дядя говорил со мной как с равным. Поэтому я и любил его. Однажды он привел меня в свой сад и доверил чрезвычайно важное дело.
— Ну-ка, давай подрезай деревья! — сказал. — Ты, кажется, это умеешь (я и представления не имел, что это такое).
Надо сказать, подрезать деревья — сложная штука; кто не умеет, лучше не лезть, можно все дерево испортить. Но дядя верил, что я подрежу без промаха — конечно для начала показал, как это делается, буркнув:
— Лучший способ воздействия — личный пример.
Осмотрев первое обкромсанное мной дерево, дядя сделал несколько замечаний, но, в общем, похвалил. И, воодушевленный его одобрением, я стал подрезать лучше. Вспоминая это, я думаю, что поощрением можно развить в человеке способности и хорошие качества гораздо быстрее, чем наказанием. Другими словами — говоря о человеке лучше, чем он есть на самом деле, завышая его, мы тем самым вселяем в него уверенность, и он действительно становится лучше. А если учесть, что некоторые из поощрений и похвал запоминаются на всю жизнь, это немаловажная вещь.
Часто воскресенье мы с дядей проводили на реке. Удили рыбу, заплывали на острова. Там, на островах, развалившись на песке и положив руки под голову, дядя всегда мне что-нибудь рассказывал. Чаще всего о будущем. Он представлял будущую жизнь потрясающей: просторные стеклянные дома, широкие автострады, неимоверно огромные мосты и корабли. Он любил все яркое и грандиозное…
После разговоров с дядей все вокруг мне начинало казаться маленьким и жалким, становилось тесно на реке и душно в нашем городке. Мне хотелось взлететь и перенестись в то замечательное чарующее будущее, о котором говорил дядя, — так сильно он умел увлечь меня своей мечтой. Пожалуй, эта сила — заражать окружающих своим состоянием — лучшее из всего, что может подарить один человек другому. До сих пор дядины мечты остались во мне как маленький памятник этому необыкновенному человеку. У меня было много бесценных вещей: приключенческие книги, велосипед, самострел, бинокль, перочинный ножик, шашки, шахматы, лото, калейдоскоп; я любил плавать на лодках, рыбачить, гонять в футбол, бегать на лыжах и коньках, рисовать, строить планеры, парусники, снежные крепости, лазить по чердакам и пожарным лестницам, любил кататься на «колбасе» трамвая и подкладывать пистоны на рельсы, и играть в войну… Да что там говорить! Я многое любил. Проще перечислить, что не любил. Но все, что я имел, и все, что любил, я отдал бы за час, проведенный с дядей.
Странно, но в семнадцать лет дядя перестал быть для меня примером. Больше того, я уже считал его старомодным, ворчливым и неталантливым. Мне казались смешными и широкие дядины брюки, и его напыщенная манера говорить, и его вычурные картины. Вся дядина жизнь на чердаке в наше время мне казалась глупым пижонством. И только когда мне исполнилось тридцать лет, дядя снова стал для меня необыкновенным человеком, и, главное, я понял, что дядин оптимизм был не просто веселым отношением к жизни, а радостью от преодоления трудностей. Он, например, рассуждал:
— Вот часто говорят о человеке, который чего-то добился: «ему повезло», и забывают о том, что он не опускал крылья, когда не везло, не отступал. Почему-то чаще везет упорным, настойчивым. Жизнь каждому посылает достаточно случаев, когда можно взять судьбу в свои руки, не все умеют воспользоваться ими. А потом не в себе ищут причины, а ссылаются на обстоятельства. Чепуха это! Все зависит от нас самих. Как ни крути, а положительных изумлений побольше, чем отрицательных, даже в наше сложное время. Надо только уметь видеть, а это не всем дано.
В подростковом возрасте я замечал вокруг себя много несовершенного. Иногда мне даже казалось, что вообще весь мир нуждается в перестройке. Разумеется, я понимал, что переделывать легче всего в голове, и поэтому целыми днями сидел за сараем на солнцепеке и представлял, что бы сотворил, если б был всемогущим. Прежде всего мне казалось совершенно несправедливым, что лето проходит слишком быстро — не успеешь и глазом моргнуть, как опять надо идти в школу. Я решил увеличить количество летних месяцев за счет зимних; впрочем, кажется, допускал и круглогодичное лето с одним месяцем всех других времен для разнообразия. Еще мне не нравилось, что люди не могут найти общий язык с животными, и я, не задумываясь, вводил новую форму общения между всем живым на земле — нечто среднее между языком жестов и эсперанто.
Еще я считал большой ошибкой существование нечистой силы только в легендах. По моему убеждению, ее представители должны пребывать среди нас, чтобы украшать жизнь, вносить в скучные будни элементы сказочности и опасности — это являлось бы лучшей страховкой от вредной успокоенности и пресыщенности. Именно поэтому в каждый дом я пристроил домового, по водоемам и лесам расселил водяных и леших, а в школах ввел урок: «потусторонний мир».
Еще мне казалось нелепым, что одни люди рождаются красивыми, а другие уродами, одни сразу во всем встречают поддержку, а на других обрушиваются удары судьбы. В момент рождения и раннего детства я всем давал равные возможности, а дальше каждый строил свою жизнь своей головой и своими руками.
Вдобавок, мне хотелось, чтобы такие замечательные люди, как сапожник дядя Игнат, оставались бессмертными, чтобы все талантливые имели возможность проявить свой талант, — и в приступе великодушия — чтобы все одинокие обрели друзей, а несчастные стали счастливыми (сам-то в мечтах я просто купался в счастье). В тот период я много чего напланировал, прямо разрывался от замыслов, но особая глупость — горел желанием переделать людей. Во всех знакомых, за исключением дяди и бабушки, я видел массу недостатков — все время замечал, что они поступают не так, как хотелось бы мне.
Представив себя всемогущим, я создал целый внутренний мир и с каждым днем взлетал над землей все выше, уносился к самым далеким облакам. Мне уже было мало мечтать за сараем, и я распалял фантазию на улице, дома и на уроках; часто даже рано ложился в постель, чтобы погрезить перед сном. Причем иногда мои мечты напоминали игру в кошки-мышки. Каждый раз, когда из огромного дерева представлений я выбирал одну какую-нибудь ветвь и пытался охватить ее всю сразу, она тут же исчезала. Приходилось мечтать осторожно, придумывая мельчайшие детали и не спеша развивая их. По несколько дней я вынашивал ветвь-мечту и, только когда перед глазами вырисовывалась подробная картина, складывал ее, как готовый сюжет, где-то в извилинах памяти.