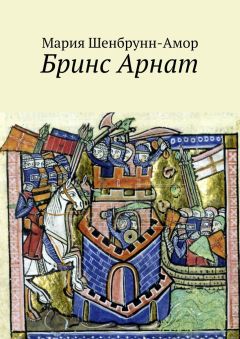Итак, мы сидим на коммунальной кухне, пьем утренний кофе, ради нашего здоровья заранее лишенный кофеина, и сосредоточенно изучаем газетный репортаж (который и сегодня чрезвычайно важен и требует натренированного осмысления). И тут, то ли от грызущей сердце печали, то ли под влиянием весенних ароматов и заоконного торжества обновляющейся природы, я позволяю себе погладить его руку, расслабленно дремлющую на газетном листе, даже взять ее в свою. Не чувствуя сопротивления, воспользовавшись погруженностью в газетные эмпиреи, я подношу ее к губам. Подумать только — как он вскинулся, как спохватился, какой нервный, затравленный взгляд метнул на дверь — не наблюдает ли кто такого неприличия? Разумеется, — мама Ксения Константиновна как раз в эту минуту может заглянуть в кухню по дороге в уборную!
— В чем дело?!
А я, как назло, упорствую, пытаюсь удержать рвущуюся прочь руку, киваю на газету:
— Не жалко тебе тратить часы своей жизни на эту чепуху?
— Это мое дело, на что я трачу часы своей жизни!
Неужели я действительно любила его? Не может быть… Нелепость какая-то…
Он прав — все плохо, и с каждым днем все хуже. Сегодня хуже, чем вчера, а завтра будет хуже, чем сегодня.
Я сижу на тахте, обхватив коленки руками, опустив глаза долу, но вижу — вижу, как он в отчаянье мечется по комнате, раз пять натыкается на письменный стол, отшвыривает заготовленные для какой-то важной цели заметки и газетные вырезки. И вместе с ним, следом за ним, по рыжим стенам, по пыльному суконному потолку мечется некая зловещая тень. Задевает портрет товарища Сталина. Товарищ Сталин потуже стиснул в зубах трубку — боится оказаться сметенным вихрем чуждых страстей, не удержать этой последней в своей судьбе позиции…
— Это не может так продолжаться!
Как это — так?
— Чего ты добиваешься? Чего ты ждешь? Чтобы я бежал отсюда? Чтобы я выбросился в окно? Ушел из собственного дома?! — Но тут же отмел столь дикие предположения: — Не надейся, этого не случится!
А почему, собственно? Совсем не плохая идея — оставить меня тут один на один с мамой Ксенией Константиновной.
И холерические метания, и сменяющая их недвижная поза у окна вопиют о некой тяжкой, непоправимой обиде. Я постоянно говорю и совершаю нечто абсолютно неприемлемое и непростительное. Да, все — пора. Соберись, девочка, с духом, собери вещички, вызови такси. Избавь наконец человека от своего постылого присутствия. Главное… Главное, не забыть маленькую кастрюльку, а то не в чем будет варить Дениске кашу. Да, представьте себе, даже если весь мир летит в тартарары, кашу варить все равно надо.
«Нужно действовать!» Излюбленный немеркнущий девиз. Воспринятый от мамы Ксении Константиновны. Зачем? Не лучше ли иногда посидеть спокойно, порадоваться, что жизнь протекает без особенных неприятностей? «Гордый лик непричастности! Это, извини, не гордость — это леность и глупость. Интеллектуальная немощь». Возможно; не обижаюсь и готова согласиться. Но не всем же быть Штольцами, в жизни необходимы и Обломовы. Суетно и скучно сделалось бы в этом мире, если бы вокруг были одни сплошные Штольцы.
Да и не был он настоящим Штольцем. Пытался. Пыжился, изображал, что вот-вот совершит нечто исключительное. Хватался то за научную карьеру, то за перо журналиста, то за поиск древних икон на Соловецких островах. Поступал в аспирантуру, устраивался в горком комсомола консультантом по вопросам промышленности, месяцами выдавливал из себя какую-нибудь пустячную статейку и после долгих совещаний с мамой Ксенией Константиновной, а также с ближайшими — способными понять — друзьями торжественно отсылал в редакцию. Предварительно заручившись обещанием какого-нибудь «своего», причастного к этому органу человечка, посодействовать.
Знакомился вдруг с «подвальными» художниками и в те же дни возобновлял дружеские сношения с бывшим сокурсником, неприметно занявшим прочную должность в Большом доме. И все это с неисчерпаемым и искренним энтузиазмом. Трудолюбиво толок воду то в одной, то в другой ступе и на каждом этапе преисполнялся ощущением необходимости и величия процесса. И с этим человеком я намеревалась прожить свою жизнь? Хотела прожить с ним всю жизнь? Невероятно…
Кстати, он и обо мне подумал — составил программу и моего жизненного преуспеяния. Хватит гнить в этом поганом издательстве! «Ты что — намерена просидеть там до пенсии? Там в принципе не может быть никакого продвижения. В лучшем варианте станешь когда-нибудь старшим редактором. Заместительницей заведующей — нет, разумеется, не всего присутствия! — какого-нибудь протухшего отдела передокументации. — И, презрительно хохотнув: — После двадцати трех лет непорочной службы». Он знает, что нужно предпринять — выучить финский язык. Или шведский. Если я смогла выучить английский, смогу выучить и финский. Или какой-нибудь еще. Постараюсь, подналягу и выучу. Английский — это, конечно, прекрасно, но это ровным счетом ничего не дает. Английская нива полностью оккупирована Риточкой Райт-Ковалевой и Андреем Сергеевым. В жизни нужно уметь действовать! Прежде всего, выяснить у компетентных людей, какой из всех языков на сегодняшний день наиболее перспективен. Обратиться к Натанелле Владимировне (знакомая мамы Ксении Константиновны, утвердившаяся в редакции скандинавских языков).
У мамы везде знакомые. Карта полезных знакомств, в своих границах совпадающая с очертаниями могучего Советского Союза и даже выходящая за его пределы. Значительная часть этого богатства досталась Ксении Константиновне в наследство от мужа, но она и сама не дремлет, не сидит сложа руки, пополняет сокровищницу. «Знакомство у ней было большое и разнообразное…»
С отцом Евгения, Петром Николаевичем, занимавшим пост директора крупного ленинградского предприятия оборонного назначения, я, к сожалению, не успела познакомиться. В декабре 1950 года он скоропостижно скончался от инсульта. Как раз в тот момент, когда был уже намечен к переводу в Москву, на ответственный пост в Министерстве тяжелой промышленности. Почти все уже было оформлено и утверждено, но тут, на грех, судьба подставила подножку. Кто мог предположить? Именно в силу своих обширных знакомств и дружеских связей Петр Николаевич чуть не загремел вслед за прочими разоблаченными и обезвреженными по «ленинградскому делу». Но ему повезло — всей семье повезло: внезапный инсульт спас его от суда и расправы, позволил умереть честным коммунистом, а вдове и сыну (да отчасти и Вале) избежать печальной участи членов семьи врага народа. Правда, одну комнату у них все-таки отобрали — первую от входной двери. Вселили в нее рабоче-крестьянское семейство Харитоновых (муж, жена и двое мальчиков). Директорский письменный стол пришлось перетащить в комнату Евгения. Роскошная отдельная четырехкомнатная квартира превратилась в жалкую коммуналку. Ну, допустим, не окончательно жалкую, всего с одними соседями, но все-таки коммуналку. К тому времени, когда в ней возникла я, соседские мальчики уже подросли, один заканчивал школу, другой учился в техникуме.
Мама Ксения Константиновна занимала ббольшую из оставшихся комнат, Евгений (позднее вместе со мной и Дениской) — шестнадцатиметровую оранжевую, а Валя располагалась в семиметровке при кухне. Для Вали и такая скромненькая комнатка была великой роскошью. Двадцать шесть лет назад, после рождения Евгения, Ксения Константиновна великодушно выписала младшую незамужнюю сестру из Курска — не отдавать же ребенка в чужие руки. Выходив и вырастив «своего Женечку», Валя с тем же восторгом и безграничной преданностью принялась нянчить и нашего Дениску. Я могла учиться, работать, ходить с мужем в гости, в кино и театры, посещать художественные выставки и концерты — Валя не роптала. «Идите, дорогие, конечно идите!» Тонны любви, не израсходованной на собственных детей, изливались теперь на внучатого племянника.
Вечно чем-то взволнованная и напуганная Валентина Константиновна. Вот уж совсем не человек действия — всю жизнь в тени своей энергичной высокопоставленной сестрицы. Всю жизнь в приживалках. Смущалась, когда я называла ее по имени-отчеству: Валентина Константиновна.
Мы, правда, все реже пользовались ее добротой. Все реже ходили куда-нибудь вместе. Евгению стало как-то проще без меня. Без моих бестактных замечаний и ядовитых наблюдений.
Разумеется, моя прискорбная сущность выявилась не сразу. И законное раздражение не сразу изъязвило душу. Но день ото дня оно крепло. Совершена прискорбная ошибка, и ее следует исправить. Аксиома. Все во мне сделалось негоже и немило, в том числе (а может, и более всего) неправильная жизненная позиция. «Ни на что не претендующая амеба!» Рассуждения мои оказывались не просто неверными, но даже вредными и опасными для его благополучия. Что делать? Оплошал. Был влюблен и очарован: самая красивая, самая обворожительная, самая бесподобная. Да нет — в том-то и дело, что не был ни влюблен, ни очарован — зачем-то принудил себя очароваться. Заставил себя поверить, что я, именно я, и никакая другая, и есть тот самый заслуживающий его обожания объект. Субъект. Видно, кто-то из друзей коварно ввел в заблуждение — что-то такое наплел и заставил засуетиться. Одна из основных черт: вечный страх опоздать и упустить. Однако в конце концов понял, что роль очарованного бесплодна и утомительна. И одновременно осознал всю нелепость моего присутствия в его жизни. Все скверно, и изменений к лучшему, естественно, не предвидится. У этой женщины, которую он столь легкомысленно вселил в квартиру своей мамы, ни нюха, ни ощущения ситуации, ни умения заинтересовать собой полезных людей.