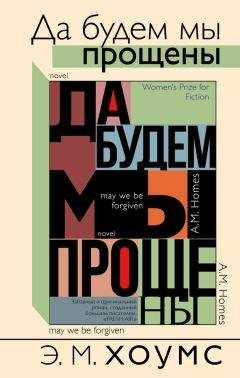– А куда же я пойду?
– Ну, например, в интернат с хорошим уходом или куда-нибудь еще…
– На кладбище, она хочет сказать, – поясняет человек с соседней кровати. – Они таких слов говорить не любят, а мне можно, потому что – как вам уже сообщил – сам там скоро буду.
– Вы с виду совсем не так больны, – говорю я ему. – Вполне связно выражаетесь.
Я вытираю с губ нити слюны.
– Оттого-то все так сурово, – отвечает он. – В полном своем уме, все осознаю, но уже ненадолго.
– А вы не думали про хоспис? – спрашивает моего соседа консультант-пушистые-друзья.
– А в чем разница? Картины на стенах? Что тут, что там, всюду дерьмом воняет. – Он подносит руку к лицу. – Это я или кто-то другой? Рука моя или ваша?
– Ваша, – говорю я.
– Ага, – замечает он.
– Не хотела бы прерывать, – перебивает пушистая волонтерка, – но вы за целый день еще успеете наговориться, а у меня работа есть.
– То ли целый, то ли нет, – отвечает ей умирающий.
– Давайте о ваших любимцах. Клички, возраст? У вас ключ от дома с собой?
– Собака – Тесси, возраста не знаю, Маффин – кошка. Запасной ключ под фальшивым камнем слева от двери. Фальшивый ключ и десять баксов.
Умирающий жужжит, чтобы заглушить наш разговор.
– Слишком много информации, – говорит он. – Больше, чем мне следует знать.
– Ага, будто вы прямо сейчас встанете и обокрадете мой дом?
– Можете записать под мою диктовку? – спрашивает умирающий.
– Могу попытаться.
Давлю на кнопку и прошу бумагу и карандаш.
– Это не сразу, – предупреждает сестра.
– Тут умирающий, который хочет исповедаться.
– Всем нам что-то нужно, – отвечает она.
Я дремлю. Во сне слышатся выстрелы. Просыпаюсь с мыслью, что мой брат хочет меня убить.
– Это не ты, – говорит сосед по палате. – Это в телевизоре. Пока ты спал, приходил коп. Сказал, что придет еще.
Я молчу.
– Можно тебе вопрос задать? Ты тот, который жену убил?
– Что заставляет так думать?
– Услышал тут разговор про человека, который жену убил.
Я пожимаю плечами:
– Моя жена подала на развод. И аннулировала мою медстраховку.
Человек с порога спрашивает:
– Кто тут просил священника?
– Мы просили бумагу.
– А!
Он выходит, возвращается с большим блокнотом и ручкой.
– С чего начать? – спрашивает умирающий. – Определенно существуют вопросы, на которые надлежит дать ответы. Трудность в том, что не на все ответы есть. Есть такие вещи, которые знать невозможно.
Он начинает разворачивать рассказ – сложное повествование о женщине. Как они сошлись и как расходились.
История красивая, затейливая, сэлинджеровская. Они не говорили на одном языке, у нее был яркий красный шарф, она забеременела.
Я пытаюсь записывать. Глядя на то, что выходит из-под пера, вижу, что получается бессмыслица. Это и текстом-то назвать нельзя. Оставленные на бумаге следы вряд ли кто-нибудь смог бы прочесть. Я сосредотачиваюсь на ключевых фразах, рисую картинки, пытаюсь начертить карту – на всю страницу, – надеясь, что потом разберусь. А он говорит и говорит, и как раз когда я уже жду, что вот сейчас будет конец, развязка, он вдруг резко садится на кровати.
– Дышать не могу! – говорит он.
Я давлю на кнопку вызова.
– Он не дышит! – кричу я. – Был бледный, а сейчас побагровел весь, даже лиловым стал!
Палата быстро наполняется людьми.
– Мы разговаривали, он как раз хотел сказать заключительную реплику и тут вдруг резко сел и говорит: «Дышать не могу».
Он отплевывается, задыхается, он в беде, а люди все подходят и подходят, как публика на спектакль. И все стоят и на него смотрят.
– Вы так и будете стоять и глазеть или будете что-то делать? – спрашиваю я.
– Сделать мы ничего не можем, – отвечают мне сестры.
– Как так не можете?
– Он – НР. «Не реанимировать».
Хотел умереть достойной смертью. Но посмотреть на него – дергается, будто его душат.
– Кто ведает, когда и как призовут его, – говорит одна из них и задергивает занавеску между койками.
– Так не годится, – говорю я, вытаскиваю свою многострадальную тушу из проклятой койки и отодвигаю занавеску.
Он бьется в судорогах, его подкидывает, он будто просит кого-то что-то сделать. Забыв о проводах кардиомонитора и шлангах капельниц, я придвигаюсь к нему ближе, голой задницей отодвигая с дороги сестер. Мысленно я слышу, как он просит меня двинуть его как следует, и я так и делаю. Чертовски сильный апперкот, в живот, изо всех оставшихся сил.
У него распахивается пасть, и из нее вылетают зубы. Больной ловит ртом воздух.
– Эти гребаные челюсти чуть меня не угробили, – выдыхает он.
– Вы сказали, что не хотите быть реанимированным, – говорит сестра возмущенно.
– Но я же не говорил, что хочу подавиться собственными зубами!
– Я думала, это эмболия. Вы ведь тоже так думали? – спрашивает одна сестра у другой.
– Сделайте одолжение, отправьте меня домой. Там я хотя бы застрелиться смогу, когда буду готов.
– Вы хотите, чтобы я позвала вам кого-нибудь?
– В смысле?
– Представителя больницы? Специалиста по разбору дел, адвоката пациентов? Доктора? Скажите только.
– Начните с первого и до самого конца списка. И немедленно измените у меня в документах. У вас просто никто не понимает, что такое НР.
Через полчаса приходит женщина с бланками отзыва распоряжения НР.
– Пока все изменения зарегистрируются в системе, пройдет время, так что я объявление напишу на вашей двери.
– Делайте, что считаете нужным, – говорит мой сосед.
«ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА СПАСАТЬ!» – пишет она на привинченной к двери грифельной доске, где уже наши фамилии, а также факт, что мы «СКЛОННЫ К ПАДЕНИЮ/ДЕЙСТВОВАТЬ ОСТОРОЖНО».
В середине дня возвращается девушка из «Пушистых друзей», приносит фотографии Тесси и кошки, сидящих на диване Джорджа и Джейн рядом с симпатичным парнем.
– Все уладилось, – радостно сообщает она.
* * *
Приходит тот коп из парка – он в форме и тащит здоровенный подарочный букет: цветы и плюшевый медведь, цепляющийся за вазу сбоку.
– Слушайте, я пришел извиниться. Я с вами был груб, хотя вы совершенно этого не заслуживали.
– Ничего страшного, – отвечаю я.
Коп садится на край койки, и мы мило болтаем, а когда уже действительно нечего сказать, он мне говорит, что зайдет еще.
– Просто смотреть было больно, – говорит мой сосед после его ухода. – В программе небось участвует.
– В какой программе?
– Типа «Двенадцать шагов». «Анонимные те», «Анонимные эти». Шаг номер девять – загладь вред, который ты причинил.
– Занятно, – говорю я.
Меня подмывает рассказать, как я чуть не сорвал собрание «Анонимных алкоголиков», но, учитывая, как он хорошо разбирается в этих шагах, лучше промолчать.
Приносят ужин. Ему – ничего.
– То есть как это – ничего?!
– Вы у меня ни на одно кормление не записаны, но могу вам принести напитки на выбор, – говорит разносчица.
Я открываю крышку на своей тарелке и не могу понять, что там за блюдо.
– Что это? – спрашиваю я.
Женщина заглядывает.
– Это у нас курица в соусе «Марсала».
– Я умираю, – подает голос мой сосед. – И не хочу свою последнюю еду пить, если только это не очень хороший скотч.
– Вот несколько меню с сестринского поста. Они всегда себе заказывают доставку.
– Вот это был бы класс!
Он обрадован, более того – вдохновлен.
Я закрываю тарелку крышкой, чтобы не чуять ароматы, и жду, что будет дальше.
– Вы что хотите на ужин? – спрашивает он, проглядывая меню.
– Что угодно, лишь бы не китайское.
Он оживляется, вытаскивает телефон откуда-то из-под подушки или одеяла, начинает набирать. Возможности движения у него ограничены, но его ведет цель. Первым делом он звонит в бургерную и заказывает два чизбургера делюкс с картофельными чипсами и огурчиками. Потом в пиццерию и просит среднюю пиццу-пеперони, звонит в кафе и заказывает рисовый пудинг и крем-соду. Я прошу его добавить парочку батончиков «херши» с миндалем. А потом приемщик заказов из магазина говорит, что за доставку двадцать долларов, и мой сосед говорит тогда, что даст курьеру еще пятьдесят на чай, если тот заедет в винный магазин за вполне определенной бутылкой виски. Приемщик говорит, что сам доставит.
– И если я заказал больше, чем могу съесть, что с того? Я умираю, и об остатках мне нечего беспокоиться. Могу я вам заказать что-нибудь особое, что-то такое, за что вы умереть готовы, простите за каламбур?
Когда-то я любил икру, свежие сырные блинчики, шоколадные эклеры, и были лет этак сорок назад пончики, которых мне никогда не забыть. Апельсиновое печенье-хворост в холодное утро возле магазина на президентских выборах семьдесят второго года было так близко к совершенству, как может быть близка к нему любая еда. Но дело в том, что сейчас я лежу в больнице и ни к каким вообще кулинарным изыскам меня не тянет.