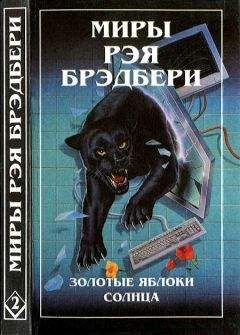И правда красиво было, до обалдения. Какой-то зеленоватый лунный свет – и мелкий-мелкий сверкающий снег, нет, чертовски красиво, на самом деле. Но я все еще никак не мог понять, как это она поняла, что это я, а не кто-нибудь другой. И тут я взглянул на нее, на Ленку, искоса – и просто обмер. Клянусь, она была просто красавицей, черт бы меня побрал, – тоненькая, прямая, и вся какая-то натянутая, как струна, и я только через тысячу лет вспомнил, что она имеет первый взрослый разряд по гимнастике, но тогда мне, клянусь, было не до гимнастики, потому что я смотрел на нее не отрываясь и мне казалось, что я вижу ее в первый раз. Ресницы у нее были – в полметра длиной и густые, как махровая гвоздика… И вообще она мне кого-то страшно напоминала, чье-то лицо из эрмитажных картин, но я даже и тут не успел сообразить, чье, потому что во мне что-то лопнуло и вдруг стало внутри тепло-тепло, а потом я словно увидел себя со стороны – увидел, как поворачиваю ее к себе и целую. Я до сих пор об этом не могу забыть – во-первых, как я решился, а во-вторых, не могу забыть, как это все было хорошо. Не понимаю, как я решился ее поцеловать! Но может, это был и не поцелуй вовсе – то есть, я имею в виду – не настоящий поцелуй. Потому что я только успел прикоснуться к ее губам – и все. Они были удивительны, Ленкины губы, они были упругие и холодные в тот момент, когда я приблизился к ним настолько, чтобы понять это, но в следующее же мгновение они словно отошли, как-то раскрылись и дрогнули. И уже не были холодными. Черт знает когда, за такую малость, они потеплели и стали такими нежными, что у меня до сих пор мороз по коже, стоит мне только вспомнить об этом. Но все это длилось одну секунду.
И тут я понял, что стою с закрытыми глазами. Сам не знаю, когда они у меня закрылись и почему. И я открыл их. И увидел, что у Ленки они тоже закрыты, и так она стояла, словно там, за опущенными веками, вглядывалась во что-то, видное ей одной.
Но самое удивительное было не это. Удивительнее всего было какое-то прекрасное ощущение. Вы понимаете, о чем я? В этом не было ничего пошлого. Все было чисто, без всякой грязи – как если бы я поцеловал маленького ребенка, маленькую девочку. И в то же время совсем другое – не так, когда целуешь ребенка, – но так же хорошо.
Но тут я оплошал. А может быть, и нет – не знаю. Я уже говорил, что стоит мне хотя бы пригубить вино, как на меня нападает дьявольский сон. Словно клею мне в глаза наливают. И вот после всего этого – я имею в виду, после того как мы с Ленкой так славно поцеловались, – я вдруг понял, что если я через полсекунды не попаду на диван, я усну просто на полу, здесь, у окна. Можете смеяться, если хотите, но так оно и было. И я сказал: «Лена. Ты не сердись. Можно, я прилягу? Я лягу на этот треклятый диван и хоть на десять минут закрою глаза. А ты – если ты только не против – посиди рядом. Ты только не сердись, ладно?»
Да, не знал я тогда, что это за человек. Это сейчас, когда я узнал ее поближе, я понял, что это была за девчонка. Куда мы все эти годы смотрели? Я говорю – была, потому что через несколько дней она уедет из Ленинграда в Кириши. Вместе с родителями. Они у нее какие-то химики, черт бы их побрал, а там, в Киришах, строится какой-то химический комбинат. Где, спрашиваю, были наши глаза все те годы, что мы вместе учились. Это только теперь мне стало ясно, какого мы сваляли все дурака, – ведь мы же не обращали на нее никакого внимания. И все из-за веснушек, чтоб нам провалиться. Но я сам-то узнал о том, что она за человек, только после того случая, о котором я рассказал, а тогда я еще не знал ничего, разве только, что я о том, что произошло, не забуду никогда, проживи я хоть триста пятьдесят лет.
Но удивила она меня сразу. Она не стала ничего говорить, по ней незаметно было – ни тогда, ни потом, – помнит ли она, как хорошо все было, считает ли она вообще, что что-то было, – ничего нельзя было увидеть. Это можно было только ощутить – я это мог ощутить. И впервые я ощутил это сразу. Потому что она нисколько не удивилась моим словам. Не стала изображать какое-нибудь оскорбленное самолюбие и так далее. Она и в самом деле почувствовала, что я действительно валюсь с ног, и просто сказала:
– Конечно, ложись. – А потом еще: – Подожди, я достану подушку. – А потом, когда я уже лежал и проваливался, проваливался, проваливался: – Подвинься. Вот так. Я тебя разбужу, не бойся. – И еще: – Дай мне руку. Вот так. – И уже последнее: – Спи.
– Спи…
И он уснул. Ночь была теплая, и костер был не очень даже нужен, но, конечно, он не был лишним. И, поворачиваясь во сне то на один бок, то на другой, мальчик плыл в густом и сладком тумане усталости и здоровья, и ночь казалась лишь мгновением, потребным для того, чтобы закрыть и открыть глаза. А когда он проснулся, солнце – Гелиос – стояло уже высоко, и вовсю пели птицы, и вкусный запах жареного мяса шел от горячих угольев, а через листву – можно было даже не раздвигать ветви – были видны вдалеке еще, но отчетливо и ясно, темные, непомерной высоты стены Микен.
Вот они и вернулись.
Сколько раз за эти годы мальчик представлял это мгновение. Сколько раз вспоминал он, как медленно, постепенно понижаясь, но не исчезая, долго-долго видны были – стоило лишь обернуться – эти темные стены, когда он едва не рысцой поспешал за широко шагающим Гераклом. И потом, во время долгих скитаний, засыпая у костра – такого вот, как сейчас, приятно согревающего теплой ночью, или дрожа от холода в сырой и темной пещере, или бредя по щиколотку в обжигающем песке, где яйцо становилось крутым за десять минут, – сколько передумал он о том, что оставил по собственной воле: надежные стены, добрых друзей, Эврисфея, великого ученого и царя, рисующего свои теоремы на грифельной доске, – и все остальное в придачу. Но ни тогда, ни сейчас, ни в минуту самой страшной опасности, когда жизнь висела на волоске, он ни разу не пожалел о своем решении.
И вот он вернулся. Теперь он уже не был легконогим шустрым мальчишкой, который некогда догнал Геракла и сказал, как мог бы сказать только ребенок: «А ну-ка, согни руку». Он вырос за эти годы, вытянулся и окреп и напоминал сейчас молодое деревце, которое со временем обещало превратиться в могучее создание природы. Теперь он умел не только быстро бегать. Годы, проведенные бок о бок с величайшим воином мира, не прошли бесследно. В короткие минуты отдыха его великий покровитель охотно делился с ним всем, что узнал он сам и чему научили его бессмертные боги; теперь мальчик, которого никто не называл уже иначе, как Гомер, научился всему, что могло ему пригодиться в этой полной опасностей жизни. Он научился метать копье в цель. Он умел затачивать наконечники из бронзы таким образом, что они, входя в тело животного, не давали копью выпасть и причиняли жестокую боль. Если надо, он мог быстро заменить тетиву на луке, сменить оплетку, устранить обрыв. Он мог обмотать седло – то место, куда вставлялась стрела, он мог сам изготовить древко стрелы, протащив кусок прямослойного дерева последовательно через восемь уменьшающихся отверстий фильер. Он мог починить наконечник стрелы и сменить хвостовик, он научился стрелять навскидку, целясь по кончику стрелы, он мог попадать в цель с колена, на скаку, верхом. Он мог объяснить разницу в выпуске азиатским методом и европейским, и дело дошло до того, что однажды во время очередной тренировки он едва не обстрелял Геракла – и не сделал этого лишь в последней серии. Кроме того, он познал премудрости сражения мечом и щитом, он научился по форме щита отличать различные народы задолго до того, как они успевали раскрыть рот. Он выучил различные виды борьбы – и тут немыслим был лучший специалист, чем Геракл: он показал мальчику борьбу классическую, с захватами и работой на туловище, и борьбу вольную, с ее многочисленными захватами, подножками, подсечками… Геракл вообще был помешан на борьбе, и, не будь он обязан доводить начатые предприятия до конца, он непременно основал бы школу борьбы – это была его заветная мечта. «Чистое дело», – говаривал он, припечатывая очередного противника к земле. Да, за эти годы мальчик хорошо узнал великого Геракла, этого наделенного чудовищной силой ребенка, этого непобедимого борца, обладавшего нежными, как у девушки, руками, когда надо было укачать младенца, – теми самыми руками, которыми он на спор вдавливал в бревно металлический гвоздь по самую шляпку, а затем вытаскивал его оттуда.
Но даже это не было самым главным, самым важным.
Самым важным, самым главным был он сам – такой, каким он стал за эти годы. Где только не побывал он на пути в страну Гесперид, шагая вслед упрямо согнутой спине Геракла. На севере, где дыхание замерзало, едва успев вырваться изо рта, и на крайнем юге, где от жары гортань казалась сделанной из наждака и кровь только что не закипала. На востоке, где в жертву кровожадным божествам в чрево медного идола, раскаленного докрасна, бросали живых людей, и в стране, где богами были крокодил и кошка, козел и корова. И все это: пестрые картины, говор, наречия, которые он усваивал со свойственной ему быстротой и основательностью, чужеземные обычаи и легенды, предания, сказки, литературные создания отдельных людей и незапамятно-древние мифы исчезнувших уже давно с лица земли народов – оседало и оседало в его восприимчивой и открытой всему новому и необычному душе, как плодородный ил разлившихся рек оседает на полях, ожидающих плуга. Да, поле его души было плодородным полем. Плугом было его любопытство, а в борозды, пропаханные случаем, все падали и падали семена мыслей, которые были вложены в него, оказывается, давным-давно Эврисфеем, который, не уставая, твердил ему одно и то же, такое знакомое и такое надоевшее: «Учись – и думай. Думай – и учись».