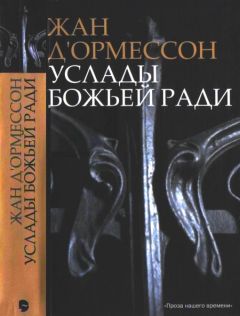Самое интересное, что грядущим поколениям, скорее всего, покажутся непонятными и удивительными именно подобные банальности. То, что сегодня является очевидным, им покажется самой большой загадкой, нам труднее всего понять у инков, у египтян, у античных греков и римлян, у монголов Чингисхана и Тамерлана не их завоевания, пирамиды и храмы, не их интриги и заговоры, так напоминающие современные, и даже не их жестокость, их странности, их культ солнца или природы, не их философию и религию, а их повседневное мышление, отношение к другим людям, осмысление того места, которое каждый из них занимал в мире, в жизни. Когда мы войдем в грядущее общество, людям покажутся непонятными женитьба дяди Поля, двойная жизнь тети Габриэль, наши взаимоотношения с историей и государством, идеи деда, попытки отца освободиться от груза прошлого, то, как мы представляли себе нашу задачу в этом мире и цель жизни, то есть все, что было мне близко и что в моем сознании мне было бы трудно расположить как-то иначе. Дело в том, что малейший жест, свойственный нам, самое незначительное рассуждение, все, что нас смешит или беспокоит, все, что мы делаем, зависит от привычек, от условностей, от мифов, настолько глубоко сидящих в вещах и вместе с тем таких открытых, что живущие в этом мире едва догадываются об их существовании.
Поэтому сегодня я еще больше восхищаюсь отцом, восхищаюсь его попытками встать над своей средой. Сейчас я склонен считать, что не такой уж слабый был у него характер. Нет ничего труднее, чем выйти за рамки своей эпохи и своего окружения. В окружении отца не было никого, кто мог бы подать ему пример, у него не было никакого повода хотя бы чуточку усомниться в прелестях традиции и порядка. Религия, мораль, эстетика, молва, да и интерес тоже — все настраивало его на приятие того, что отражалось в зеркалах прошлого, которые с любовью сохранялись в Плесси-ле-Водрёе. Но ему этого было мало. Я не думаю, что это моя мать, которую он обожал, толкала его на это. Наоборот, именно гибель отца стала причиной ее трагической любви к людям. Отец же и в ту пору, когда он был счастлив, любил людей, любил их радостно. И то, что я рассказываю здесь, совсем не удивительно. Ведь кроме своих маршалов, кроме своих вольнодумцев и министров всяких там семья насчитывала также какое-то количество святых. Я думаю, что и они тоже любили людей и сумели перешагнуть через барьеры своей касты. Мой отец не был святым. Он любил веселье, любил праздники, знал толк в винах, любил комфорт, был ироничен. Поскольку он принадлежал к нашей семье, то взаимоотношения с Богом занимали важное место в его жизни, но я не уверен, что они были простыми. Наши святые любили людей потому, что они любили прежде всего Бога. Они любили людей в Боге и через Бога в качестве посредника любили людей. Отец же прежде всего любил людей. И это стало поворотом в нашей долгой истории. Наверное, можно сказать, что отец видел в Боге вечный образ всех людей, прошедших по Земле. Я не совсем уверен, что ему понравилась бы такая претенциозная формулировка. Ведь он был из нашего круга и не переносил ничего, что хотя бы немного напоминало лицейский или философский жаргон. Он любил историю и терпеть не мог философию. А философия для него началась довольно рано. Я уж не говорю о Гегеле или Марксе, чьи имена никто, никогда и ни за что не решился бы произнести вслух в Плесси-ле-Водрёе. Все слова, состоящие более чем из трех слогов, уже казались ему подозрительными, и я полагаю, что Анатоль Франс находился для него уже на грани допустимой метафизики. Любовь к людям он черпал не в диалектике и не в философии истории. Скорее она возникла у него на фоне общих христианских представлений из смешения естественной симпатии и приправленной юмором вежливости. Члены нашей семьи испокон веков обнаруживали одинаковую вежливость, и даже несколько больше чем вежливость, при общении как с бретонским рыбаком или сицилийским каменщиком, так и с нотариусом или генералом, пожалуй, большую даже вежливость, чем при общении с каким-нибудь министром республики или разбогатевшим нефтепромышленником. Он был дружелюбно настроен к людям, вот и все. Он уважал их, считался с ними. И он ненавидел несчастье. Я уверен, что мама именно в память об отце и из любви к нему после его гибели постепенно заменила свой культ мужа на культ страдающего человечества. А я вспоминаю об отце лишь тогда, когда улыбаюсь жизни.
Возможно, из сказанного уже ясно, что отделяло моего отца от адских машин и несколько педантичной утонченности улицы Варенн. От них он был еще дальше, чем от устаревших традиций, царивших в Плесси-ле-Водрёе. Он относился с юмором и к нашим обрядам, и к величественным общественным институтам, высмеянным Паскалем еще в ту пору, когда они сияли ярче, чем в какое-либо иное время. Но отец уважал их. И наоборот, он решительно отвергал всякое святотатство и иконоборчество, против которых восставали и его характер, его убеждения, его чувство юмора, элегантность его ума, равно как и его этическое чувство, глубокое, но совсем не тяжеловесное. Дело в том, что он был одновременно и моралистом, и ироничным человеком, и даже по-своему смелым вольнодумцем, почти скептиком, никогда, впрочем, не опускавшимся до цинизма, был человеком веры, как и его предки, которых он никогда не забывал и не предавал даже в новые времена, встреченные им с открытым сердцем.
Достаточно ли ясно я осветил свое положение в составе семьи к моменту появления г-на Жан-Кристофа Конта в Плесси-ле Водрёе? Отец мой погиб достаточно бедным, почти не оставив состояния, так как много тратил, мать вела уединенный образ жизни, совершая длительные визиты во все приюты и тюрьмы, которые она только могла обнаружить в относительной близости от замка, дедушка по-прежнему царил, но управляла всем тетя Габриэль, тогда как уйма двоюродных дедушек и бабушек, дядюшек и тетушек, кузенов и кузин плели вокруг окаменевшего древнего сооружения ткань, защищавшую его от внешних влияний. Дети дяди Поля и тети Габриэль пользовались всеми преимуществами: со стороны Реми-Мишо — богатством, а с нашей стороны — званием детей старшего брата, будущего главы семьи. Я же находился как бы на обочине. Г-н Жан-Кристофер Конт в конце каждого месяца получал конверт с жалованьем из рук дяди Поля или тети Габриэль. Что до меня, то меня приглашали в огромный учебный зал на последнем этаже замка подобно тому, как других небогатых кузенов приглашали на псовую охоту в лесу или на воскресный ужин в столовую под огромные картины Риго. Мы встречали г-на Жан-Кристофа Конта вчетвером: мои двоюродные братья Жак и Клод, я и сын г-на Дебуа, управляющего замком. Всем нам было лет по пятнадцать — семнадцать, и мы готовились, защищенные древними стенами Плесси-ле-Водрёя, встретить в свою очередь все опасности этого мира: женщин, учрежденные республиканской администрацией экзамены, социалистов, приключения, — все, что в романах называлось судьбой и выглядело как история, творимая у нас на глазах, но далеко от нас, по ту сторону парка, за кладбищем в Русете, за фермами и за лесом.
Жан-Кристоф удивил нас в первый же день. Все, что нам рассказывали учителя-иезуиты и настоятель Мушу, нам уже страшно надоело. Жан-Кристоф сразу распахнул перед нашими веками закрытые окна, открыв нашим взорам неведомые пейзажи. В понедельник утром, войдя в учебный класс, где мы вчетвером со смутным волнением ждали его, он сразу же заявил, что понимает обучение как своего рода дружбу и что мы можем обращаться к нему на «ты». В Плесси-ле-Водрёе редко обращались друг к другу на «ты». Мы говорили «вы» и родителям, и, естественно, дедушке, настоятелю Мушу и всем учителям. Жан-Кристоф, улыбаясь, сказал, что видит свою задачу не в принуждении, а в помощи и что надеется, что мы станем друзьями. И пока мы, опешив, приходили в себя после такого неожиданного заявления, он прочел нам стихотворение Верлена, начинающееся словами: «Что хочешь ты, воспоминанье? Уж осень…» Это стихотворение, с его особой мелодией и туманным силуэтом молодой женщины, навсегда осталось у меня связанным с учебным летним залом на последнем этаже замка Плесси-ле-Водрёй и с обаятельным образом нашего преподавателя, невысокого, слегка сумрачного и, тем не менее, такого живого брюнета.
Несмотря на его безвкусные галстуки, Жан-Кристоф Конт очень скоро стал для нас чем-то вроде полубога, необходимого и благосклонного. У нас было мало друзей. Мы почти ни с кем не встречались, кроме провинциальных кузенов, гостивших в замке, да соседей, приглашаемых строго по списку на полдники, да охотников на конях, в красных куртках с синей отделкой, с рогом, висящим на шее. Я был очень близок с отцом, но мне и в голову не пришла бы мысль считать его своим другом. Я любил его и уважал. Быть может, от того, что он погиб, когда я был еще мальчишкой, я не считал себя ровней ему. Я находился у него в подчинении. Он знал людей и смысл всего, а я их не знал. И он, как отец, должен был передать сыну эти знания. А Жан-Кристоф, наоборот, по примеру Сократа, заявлял, что ничему нас не учит. Он открывал нам лишь то, что уже было в нас. Мы несли в себе свой мир, но не подозревали об этом.