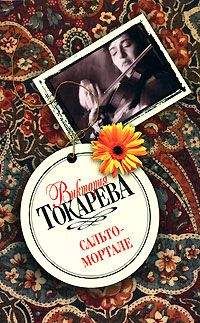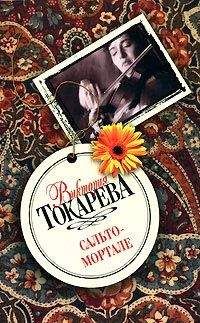– Еще? – спросил Климов.
Кошка промолчала. Продолжала глядеть.
Климов снова пошел к Лиде, и она снабдила объедками. На этот раз, Климов заметил, в кастрюле была преимущественно каша. Кошка тоже обратила внимание на это обстоятельство, но все равно принялась есть – наверное, впрок. Она была не уверена в завтрашнем дне и даже в сегодняшнем вечере.
Из корпуса вышла старушка, соседка Климова. На ней была черная широкая шуба с квадратными плечами, похожая на кавказскую бурку.
– Вторую кастрюлю ест, – насмешливо восхитился Климов.
– Она же лопнет… – Старушка удивленно раскрыла свои полудетские глаза. – Разве можно так перегружать голодный желудок?
Климов отобрал у кошки котелок и отнес его на кухню. Когда он вернулся, то увидел возле корпуса сестру-хозяйку Елену Дмитриевну. На ней был ватник, надетый поверх белого халата. В руках она держала стопку махровых полотенец, от этого ее спина была выпрямлена, а гордая осанка сообщала гордость всему ее существу. Как правило, люди, занимающие низкую ступеньку на престижной лестнице, любят показывать свою власть – это их способ самоутверждения. И Климов, публикующий научные статьи в научных журналах, был для сестры-хозяйки самый заурядный отдыхающий, даже хуже, чем заурядный, потому что он нарушил правила внутреннего распорядка.
– Чья кошка? – строго спросила Елена Дмитриевна.
– Ничья.
– А как она сюда попала?
– Я принес, – сознался Климов и почему-то заробел.
– Значит, ваша?
– Ну, моя…
– Не вздумайте оставлять ее здесь. Ее собаки разорвут.
Климов вспомнил, что при санатории действительно пасутся две дворняги, одна – без хвоста, и обе без гордости. Собаки-попрошайки. Каждый раз после обеда отдыхающие выносили им куски и кусочки, и собаки преданно смотрели людям в руки и глаза. Конкуренцию кошки они вряд ли потерпят.
– И не вздумайте брать ее себе в номер, – предупредила сестра-хозяйка. – У нас в помещении животные запрещены.
Сестра-хозяйка повернулась и пошла, выпрямив, даже выгнув спину. Климов вспомнил почему-то, что летом она делает себе салат из трав, которые растут под ногами: подорожник, крапива, стебли одуванчиков, корни лопуха. Эти травы знают животные, а люди их не едят. Люди едят только то, что сеют. И это большое заблуждение. В беспризорных травках есть жизненная сила, которая дает уверенность плоти, а плоть сообщает свою уверенность духу, ибо, как известно, в здоровом теле – здоровый дух.
Климов вздохнул, поднял кошку с земли, посадил ее на плечо и пошел обратно, на развилку трех дорог.
На развилке он снял кошку с плеча, поставил ее на дорогу и пошел в глубину леса. Кошка зашагала следом. Климов обернулся и сказал:
– Не ходи за мной. Ты же все слышала.
Он ускорил шаг, но кошка тоже ускорила шаг.
– А ну иди отсюда! – Климов сделал свирепое лицо и затопал ногами, как бы побежал на кошку, хотя оставался на месте.
Климов прекратил бег на месте, повернулся и пошел. Кошка подумала и тоже пошла в глубину леса, за Климовым, соблюдая, однако, дистанцию.
Климов оглянулся и заключил:
– Ни стыда, ни совести… А еще кошка.
Отсутствие совести у одного рождает бессовестность у другого. Климов пошарил глазами вокруг себя, поднял с земли небольшой черный сук и метнул в кошку. Кошка отскочила, давая дорогу летящему предмету. Посмотрела на сук, потом на Климова, и в ее глазах легко было прочитать: «Какой же ты подлец!»
– И очень хорошо, – сказал Климов и пошел дальше.
В глубине леса широким, размашистым шагом бежали два лыжника, один в ярко-голубом, другой в ярко-оранжевом. Климов пригляделся. Это были Олег и Лена. Лена остановилась, стала ждать Олега, изогнув стан, опершись на палки. Ей, наверное, было радостно смотреть на него – приближающегося, огромного, оранжевого, как факел. А ему нравилось приближаться к ней, небесно-голубой на фоне заснеженного леса. Они улыбались друг другу, и морозное облачко витало вокруг их губ.
Климов вспомнил свои лыжные прогулки. Обычно он одевался на лыжи, как на субботник, напяливая на себя самое распоследнее рванье, и в результате походил на пленного немца. Казалось бы: ну и что особенного? Не все ли равно, в чем кататься? Но сейчас почудилось: было упущено в жизни что-то, связанное с достоинством.
Климов обернулся. Кошки не было.
Дорога переходила на лыжню. Идти по лыжне было неудобно, а возвращаться не хотелось. Не хотелось встречаться с кошкой. Все-таки их отношения были подпорчены. Климов вздохнул и побрел как попало, время от времени глубоко проваливаясь в снег, медленно вытаскивая ноги.
Неожиданно он выбрался к реке. Река была под снегом. В двух местах дымились две полыньи. Через реку по протоптанной тропинке шли два мальчика с портфелями, – наверное, со школы, и, наверное, эта дорога была короче. Климов стоял и смотрел, как движутся две фигурки, черные на белом, как в немом кино. Снег сверкал под солнцем. Мальчики шли навстречу своей жизни, не обычной, может быть, судьбе, и не тяготились повседневностью.
«Надо бы позвонить кому-нибудь, – подумал Климов. – Пусть приедут». А потом подумал: «Приедут из города и привезут с собой часть этого города, от которого я бежал…»
* * *
Те двое, как всегда, опаздывали, а деликатная старушка сидела на месте.
Климов успел проголодаться и с удовольствием принялся за холодную закуску.
– А где ваша кошка? – спросила старушка.
– Я ее обратно отнес, – ответил Климов, насаживая на вилку кусочек сардины с нежными оплывшими краями.
– Куда? – не поняла старушка.
– На дорогу.
– Вы бросили ее на дороге? – удивилась старушка.
– А куда я ее дену? – в свою очередь, удивился Климов.
– Что значит «дену»? Вы говорите о живом существе, как о вещи…
Климов перестал есть.
– Я не понимаю, что вас не устраивает? То, что я накормил голодную кошку?
– Если вы начали принимать участие в другой судьбе, то вы должны участвовать до конца. Или не участвовать совсем.
– Да. Но это не имеет отношения к кошкам.
– Вы не правы. Кошка – очень личностный зверь. Вы даже не представляете себе, что такое кошка. Она связана с Луной. Как море.
– Откуда вы знаете?
– Знаю. Я сама при первом рождении была кошка. – Старушка улыбнулась, как бы вышучивая свою фразу.
«Сумасшедшая», – подумал Климов.
Замолчали.
Мысленно перевернули страницу беседы.
Подошла официантка Лида и поставила перед Климовым тарелку с борщом.
Климов понял, что ему не хочется сидеть со старушкой, мысленно листать страницы бесед. Он с сожалением посмотрел на круг сметаны в золотисто-рубиновом борще и поднялся из-за стола.
– А второе? – удивилась Лида.
– Разгрузка, – лаконично ответил Климов и пошел в свою комнату.
В комнате он сел в кресло и приказал себе: не додумывать. Когда его что-то тревожило и он не знал выхода, он запрещал себе додумывать ситуацию до конца.
Климов посидел в кресле, и ему пришло в голову разрешить себе послеобеденный сон. Он не обедал, а значит, имеет право не двигаться, а лечь и поспать в течение сорока пяти минут.
Климов разделся и лег в постель, чувствуя почти счастье от белой крахмальной наволочки, от ощущения комфорта и покоя. Он взял с тумбочки книгу, открыл ее и пошел в мир, который предлагал ему автор книги. Он потолкался в этом мире, как посторонний человек, которого никто не интересует, и закрыл глаза. А когда открыл их – было три часа ночи. Климов спал не сорок пять минут, как собирался, а десять часов, свою ночную норму. Может быть, организм устал и предложил свою дозу отдыха. А может быть, что-то на секундочку заклинило, перепутались связи и рефлексы.
За окном было черно. Хотелось есть.
Климов стал думать, чем бы заняться: читать не хотелось, спать тоже не хотелось, он уже выспался. Просто лежать и смотреть в потолок было неинтересно. Он встал, оделся и вышел на улицу.
Ночью подморозило. Снег звонко скрипел под ногами. Климов пошел своей прежней дорогой в лес. Луна стронулась с места и поплыла следом за Климовым, сопровождая его. Деревья стояли как близкие люди, и было совсем не страшно, а, наоборот, хорошо идти одному и вести за собой Луну, как на поводке. От Луны шло свечение в небе и на земле. Климов вдруг понял, что когда-то уже видел это. Но когда? Где?
…Это было двадцать два года назад. Он учился тогда в десятом классе, и они справляли Новый год у Леночки Чудаковой на даче. И именно в это время, в три часа, выскочили на улицу. Было точно такое же небо и деревья, отчетливые в лунном свете. И было еще что-то, заставляющее его дрожать. Не мороз. И не Ленка Чудакова. И не дешевый портвейн, от которого темнели зубы. Это был напор счастья – тугой, как напор воды в гибком шланге, заставлявший его трепетать. Это была уверенность в близкой и полной реализации своей личности, своей любви. Он стоял на крыльце и придерживал себя за локти, чтобы не дрожать от счастья. Это было двадцать два года назад… А потом? Потом он был ярко счастлив и с такой же силой несчастлив. Но об этом лучше не помнить. Не додумывать ситуацию до конца… А собственно, почему не додумывать? Может быть, как раз взять и додумать до самого конца. И все исправить и выверить по законам его, климовской, совести… Может быть, за этим он и вышел ночью на улицу впервые за двадцать два года…