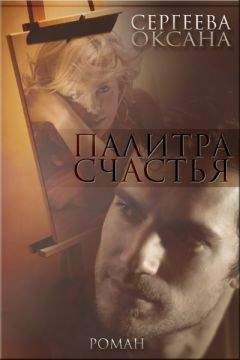Он стал присматриваться к танкистам — что ж они за люди такие? Он еще не привык к своим, к тем, кого многие стали называть по-давнему «красными», кто освободил его, и мать, и все эти курские слободы, с их жителями, и многострадальную Обоянь, Свои были совсем не те, что в сорок первом или сорок втором, — и дело тут было вовсе не в погонах, которые объявились на плечах, не в слове «офицер» (поначалу это просто пугало),не в количестве адъютантов, ординарцев, денщиков, которые окружали генералов с широкими красными лампасами на галифе и огромными, твёрдыми золотыми погонами, а в совершенно новом духе, который пронизывал армию: свои стали смелее, увереннее, громкоголосее, много смеялись, особенно штабные, свои уже не боялись немцев, но, кажется, чуть-чуть стали побаиваться своих же, исчезло панибратство, роднившее ранее командиров и рядовых и схожестью формы, и одним котелком, и появилось куда более четкое различие в чинах и званиях, расставившее красноармейцев, офицеров и старших офицеров по своим шеренгам, своим квартирам, своим госпитальным палатам и пайкам. Еще не было узаконено, но уже широко употреблялось слово «солдат», и оно как-то особенно подчеркивало крайнее нижнее положение этого ряда военных. На солдат нередко кричали, и однажды Димка увидел, жмурясь от нежеланий видеть, как офицер ударил денщика. И еще удивляло обилие хохочущих девушек в штабах, носивших короткие защитные юбки и хорошо подогнанные сапоги. Окопные санинструкторши одевались куда хуже.
Димке было уже двенадцать, он, как и все в слободе и других селах, хорошо знал скрытую жизнь каждой части или штаба, что останавливались у них за время Курской битвы, но он был так восхищен мощью и смелостью победителей, так переживал за них, так радовался удачам, что все дурное проваливалось в темные кладовые памяти и более не возникало.
Танкисты нравились ему больше всех. Здесь все, даже генералы, ходили в одинаковых комбинезонах, а если в полевой форме — то все в гимнастерках, чтобы легче напялить комбинезон, все ездили в одинаковых машинах — танках, никто никого не боялся, Димка понял, что здесь все — и рядовые, и начальники — горят в солярочном пламени одинаково и дисциплина у них оттого, что они понимают смысл порядка в бою, без которого не победить и никому не выжить. Танкисты были веселым народом, любили поесть, угощали Димку трофейным жирным и мягким шоколадом, пару раз прокатили в танке, слушали его детские стишки, играли на аккордеоне и устраивали танцы в сельском клубе, который без крыши и без стекол стоял на краю слободы. А еще они без конца писали и получали письма, показывали друг другу фотокарточки. В бесформенных и плотных замасленных комбинезонах, они все казались здоровяками, но из воротников торчали тонкие юношеские шеи, и когда они бегали в глубь яра к пруду купаться, те вмиг превращались в худоногих озорных хлопцев. Димка с удивлением подумал, что они были примерно того же возраста, как он сейчас; в его студенческое время.
И он почувствовал себя этим вот худоногим, старающимся не выказать своей юности танкистом и вдруг осознал, что у каждого из них — тогда они казались ему взрослыми и самостоятельными была мать и для матери они были конечно же мальчишками, как и он для своей матери. И вдруг стихотворение стало складываться. Да, теперь он несомненно, стал этим пацаном в комбинезоне, который изо всех сил хочет казаться взрослым, подражает командиру, повторяя его любимые словечки, говорит нарочитым баском, хвастается перед приятелями успехом у девчат, победами и заливается при этом предательской, выдающей похвальбу, краской. Все маячили, брезжили в его сознании, одолевая приподнятый, звенящий и самодовольный голое доцентши, какие-то строки, а в них тасовались слова. Неизъяснимые сладкие муки терзали Димку. «Да, в Полесье весна. Мы уже в гимнастерках. И в пилотках, Совсем, по жаре, налегке. Извините, „бэу“. Видно — локти протерты. Это ползали мы, ремонтируясь, в вязком песке…»
Исчез куда-то Чекарь. Что Чекарь, зачем? При чем здесь долг, рулетка — перед Димкой был видавший виды Т-34, погнутые крылья над гусеницами, сбросившие из-за жары комбинезоны ребята. И один из них, пристроившись где-то на теплой броне, подложив планшет под листок бумаги, писал матери. Они не любили говорить вслух о матерях, стыдились» все больше о бабах болтали, хвастались фотокарточками — у кого лучше. Но Димка бывал в госпиталях, сутками торчал там, то читая книжки, то помогая нянькам, он знал — все зовут маму, когда больно или страшно. Только очень пожилые люди, лет тридцати, воздерживались, да и у них не раз прорывалось.
Звонок звучит совершенно некстати, обрывая доцентшу Куркину (или Корякину). Но, к счастье для Димки, она просит всех задержаться минут на пять, чтобы дослушать нечто важное. Она ополчается на Фейербаха, который не смог дотянуться до истинной диалектики, и останавливается на его последних ошибках. Димка рад задержке — он может еще повозиться со строчками, которые те и дело переламываются от хрупкости каких-то неудачных слов, Попутно Димка отмечает, что Фейербах — удивительный мужик, он прекрасно писал о любви. До чего ему надо было, он дотянулся. А Димка, как ни старайся, до Фейербаха не дотянется, хотя женщина с кафедры старается уверить его, что, вооружившись правильным подходом, с этого дня он даже и перетянет, и переплюнет,
Димка и не подумал бы тягаться с высокообразованным немцем. Разве что в одном — житейском опыте, чего выдающемуся мыслителю, замкнутому в академическом мире, а затем работавшему в баварской деревеньке под крылышком жены-фабрикантки, должно быть, не хватало. Димка недоумевал по поводу того, с какой страстью ученейший человек старался доказать, что человек вознесётся до небывалых высот духа, если отринет бога и сменит веру на чувство простого братства и любви. Димка видел многое, что не оправдывало книжного оптимизма философа. Видел он однажды и несколько сот немцев, которые все сплошь оказались воинственными атеистами и даже на пряжках поясных ремней не носили, как остальные германские солдаты, надписи, что еще с орденских времен призывала бога на помощь тевтонскому воинству. Эти атеисты составляли эсэсовский танковый полк, он проходил через слободу и на какое-то время задержался. Отношения между эсэсовцами были простыми и братскими, и любили они не бога, а фюрера, Они ели и пили, все деля поровну, по-братски, и пели, обнявшись. Димка, на которого танкисты смотрели как на кошку, признавая, его животное существование в этом мире и не более, приглядывался к чужакам со страхом и любопытством. Они не были похожи на остальных немцев, они вес были как бы на одно лицо. Покидая слободу и сожрав все, что хрюкало и кудахтало, эсэсовцы своими танками столкнули в Дарьин яр зазевавшегося дурачка-возницу Петюпая вместе с телегой и клячей. Танкисты хохотали, глядя с машин на дно яра, где барахталась лошадь и силился встать Петюпай, не понимая, что сломал хребет. Бабка первая, забыв о ревущих, окутанных сизым дымом танках, их пушках и пулеметах (до войны она боялась даже миролюбиво пыхтящих паровозов), кинулась в яр спасать дурачка, А была она верующая без оглядки, истово молилась ночами и, не перекрестившись, даже из дому не выходила. Нет, чужая философия, выработанная в тихой и ученой Германии, вдребезги разбивалась о простейшие житейскне факты, известные Димке.
Последние занятия у них по военному делу, любимые Димкины занятия. Он всегда с нетерпением ждет физкультуры и «военки». Не потому, что это очень уж интересно — кому хочется, к примеру, уставы зубрить? Преподаватели нравятся, Это почти все фронтовики.
И сейчас, стараясь не забыть новые строчки, что, как рассерженные пчелы, сопровождают на бегу, Димка вприпрыжку мчится в тесный подвальчик, расположенный в крыле здания, за всяческими темными переходами, похожими на лабиринт; там в одной из комнат стоит полковая семидесятишестимиллиметровая пушка, другая комната завалена песочными макетами в ящиках, с крохотными домами, пушчонками, реками из синей фольги, ватными дымками деревьев; а стены увешаны рисунками и схемами, изображающими в деталях всевозможное оружие, Сегодня их ожидает в подвале подполковник Голован, высокий, полуседой, сдержанный, с грустными и внимательными глазами. Димка знает, откуда эта грусть, Она может светиться только в глазах тех фронтовиков, кто начал войну лейтенантиком, комвзвода, а кончил, не вылезая из окопов, комполка, сменив по многу раз ввереный ему личный состав, то есть попросту перехоронив близких ему людей, Но не все сверстники Димки это осознают: принимают молчаливость Голована за одну из граней солдафонства, боящегося раскрыть себя перед образованными мальчиками неосторожным словом. Сокурсники-фронтовики быстро поняли бы Голована, Но они освобождены от военного дела. С них хватит.
Студенты быстренько выстраиваются в комнатушке, и дежурный, толстый Гришка Семенов, докладывает подполковнику, и они недружно выкрикивают приветствие. Голован никогда не требует перекрикивать нестройное «здрав-жла-тощ-подпол-ннк», а лишь укоризненно смотрит на их косую шеренгу: «Что возьмешь с вас, филологи?» Он знает, что в случае войны согласное рявканье не спасает, а вот на полевых занятиях заставляет их ползать, прижимаясь к земле бедрами и плечами, и копать окопчики вплоть до кровавых мозолей. Голован понимает, из чего состоит война и кто на ней выживает.