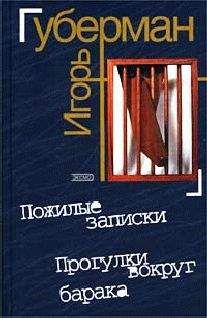Раза два Деляга, мягко к ней приникая, пытался прервать повествование, но из чистой вежливости отступал. А когда не выдержал и, обняв ее, попытался прекратить поток, дева-истопник шевельнулась досадливо и, сказав ласково: подожди, голуба, что ты нетерпеливый какой, — правой рукой отстранила слегка Делягу, очень нежно и ничуть не с укором. Но,
не умерив своей могутности, так ударила Делягу о стенку, что ему на миг показалось, что он просто размазался по ней. А дева, безо всяких усилий чуть придерживая его в расплющенном состоянии, продолжала ворковать про кино. О любви Деляга уже не думал. Извини, просипел он слабо, я забыл совсем, ко мне зайти должны.
— Ой, а я-то, дура, заболталась, — с искренним сокрушением сказала она. — Ты вернешься сейчас, да? Я жду.
Он и вправду хотел вернуться, когда боль под ребрами чуть прошла, но нечаянно с кем-то запил, а когда вечером постучался к ней, гордое молчание было ему ответом. И она его больше не приглашала.
— С тех пор, — сказал нам Деляга, — я любил только хрупких женщин.
Он рассказывал нам о жарких спорах между ценителями туалетной воды «Сирень» и такой же под названием «Ландыш». Обе они употреблялись отнюдь не наружно, ибо не было на них водочной наценки, отчего они стоили копейки. Считанные копейки за пузырь, где грамм двести чистого спирта! Спор о вкусовых и оглушающих достоинствах обеих туалетных вод мы бы тоже с радостью разрешили на опыте, ибо очень здесь хотелось выпить, хоть на час сбежав на свободу через горлышко бутылки. Мы вполне понимали блатных, тративших все свое время и хитроумие на попытки доставить в зону водку. Или одеколон. Пили здесь также ацетон, стеклоочиститель и разные растворители (умело выделяя выпивку из нитрокраски, например, — попадала она изредка на промзону по технической надобности). И спокойно уходили в изолятор на две недели за глоток спиртного. Повидав ацетонное опьянение, снова вспомнил Деляга о Башкирии, где однажды, опившись какой-то гадостью, обезумел один его приятель. Пили они в тот вечер на крыльце своего общежития, пили водку, а грузин-красавец Гога Кавтарадзе где-то за углом еще догнался чем-то мутным, изготовленным из клея БФ, со знакомым слесарем из депо. На крыльцо он вернулся возбужденный, и притом нехорошо, агрессивно, и в какой-то полутьме сознания находясь. Говорили что-то о бабах. А невдалеке от общежития на поросшем редкой травкой пустыре каждый день паслась чья-то одинокая коза, длинно привязанная ко вбитому в землю колышку. И внезапно Гогу озарило.
— Посмотрите, — вдруг вскричал он хрипло и вскочил, — посмотрите, чем болтать о бабах, как у нас в горах имеют коз!
Крича это, он стремительно раздевался, обнажая свое рослое мускулистое тело с чрезвычайным изобилием густых и курчавых вторичных половых признаков. И оставшись в чем рожала его мать, кинулся он к несчастной козе. Ошалев от страха, бедное животное вырвало свой колышек из земли и пустилось бежать, жалобно взблеивая на поворотах. Ибо животное, что поделать, не догадывалось юркнуть в проходы между бараками и заборами домишек, а бежало, как по заколдованному кругу, по квадратному пастбищу-пустырю. А за этой козой несчастной мчался, словно горный архар, голый и воспаленный Гога. Но уже на третьем или четвертом круге, забыв, кажется, зачем бежал, Гога обогнал козу, на нее не обратив даже внимания. И бежал, летел по пустырю, догоняя вторично свою жертву. А коза, увидев ясно, что спастись ей бегством не удастся, вдруг остановилась покорно, ожидая решения своей участи. А возможно, зацепилась веревка. На нее почти налетев, обалдело остановился и Гога. Но внезапно появилась хозяйка козы, обреченной на поругание. Речь ее была гневной и изумительно красноречивой. Никогда, сказал Деляга, никогда ранее или позднее он не слышал таких сочных монологов. Хотя суть была проста почти столь же, сколько замысел, не выполненный Гогой. Если ты, обезьяна бесстыжая, бушевала владелица козы, непременно должен всунуться куда-то, так уж лучше ходи ко мне, подлец нерусский, потому что козу для тебя жалко, от нее молока почти пять литров детям вечером, волосня твоя поганая без понятия.
И пристыженный Гога протрезвел вдруг, только не настолько, очевидно, чтобы сообразить, что голый, и послушно подошел к этой женщине, и о чем-то они стали говорить. И коза подошла, ища защиты. Это было божественное зрелище. Словно Ева, изгнанная из рая и успевшая одеться, договаривалась с непоспешным Адамом, где им лучше встретиться на земле, а коза эту библейскую картину только усугубляла. Выкрики и хохот с крыльца привели Гогу в себя, и он вдруг начал пятиться от женщины, руки скрестив спереди, как обычно это делают купальщицы на полотнах старых мастеров. После резко повернулся и неловко побежал, целомудренно пытаясь прикрыть теперь руками зад, тоже невообразимо волосатый.
— И вот, век мне свободы не видать, — досказал свою историю Деляга, — а хозяйка этой козы через полчаса пришла к крылечку. Принесла нам две бутылки самогона, а взамен просила вызвать Гогу. Только он уже был в полной отключке, и бутылки достались нам под обещание, что мы завтра в это время предоставим его в лучшем виде. Слово мы, конечно, не выполнили, а от бабы этой Гога прятался еще с месяц, до конца лета. Каждый день выходила она забирать козу в шелковом платье и с прической, а обратно шла мимо барака и печально замедляла шаги. Так ее нам стало жалко, что потом и мы стали прятаться.
— Ты был счастлив тогда. Деляга? — отчего-то вдруг спросил Писатель.
— Это его волнуют твои душевные бездны, — сказал Бездельник.
— Не слушай дурака, — сказал Писатель.
— Наверно, счастлив, — ответил Деляга очень серьезно.
— Молодой был. Но все время ожидал чего-то — будущего ждал, идиот. Не умеем мы сегодняшним днем жить, хотя им-то и надо наслаждаться.
— Даже здесь? — хмыкнул кто-то из нас.
— Конечно, — убежденно сказал Деляга. — Живы, есть надежды, часто интересно, курево есть, еда не впроголодь. Грех жаловаться.
— Умница, — сказал Бездельник. — Это вполне по-моему. Самый тяжелый грех — неблагодарность.
— Вот я когда был счастлив! — вдруг воскликнул Деляга, остановившись. — Я тогда прорабом работал, налаживали мы подстанцию, халтуру делали в воскресенье. А бригада у меня новая была, я еще не знал их толком. За водкой сбегали и купили гадость какую-то, что попалось. Стакан — один. Первые двое или трое выпили — поперхнулись, плохо пошла. Моя очередь, я выпил удачно. Закусил и скалюсь от удовольствия. Тут ко мне подходит один мужичонка из бригады, Митин, потом умер, бедолага, от пьянства, хорошо так умер — сошел с троллейбуса, сел на скамью, закурить успел и отключился. Да, так вот он ко мне подходит сзади и на ухо шепотом говорит:
— А ты не так прост, как кажешься!
Как я тогда был счастлив этой похвалой! А ты. Писатель?
— Я, сказать честно, и не упомню, — сказал Писатель.
— Нет, помню, прыгал на одном месте, чтобы возбуждение унять, когда позвонил в издательство и мне сказали, что мой первый рассказ принят, я тогда фантастику писал. А ты. Бездельник? От какой-нибудь собственной же шутки, скорей всего?
— Ага, — охотно согласился Бездельник. — Причем от очень патриотической. У меня как-то начальник был, из поволжских немцев. Сука редкостная. Нас однажды много собралось, на аварию нас вызвали всех, и этот немец Фукс приехал со своими шестерками, их райком партии заставил, чтоб они нас погоняли, чтобы скорей. Вот они кучей вокруг нас стоят, при галстучках, а мы трое возимся, и Фукс про меня, хоть я рядом же работаю, спрашивает моего напарника громко, пью ли я, дескать, на работе. Тот говорит — нет, не пьет. Правильно делает, говорит Фукс, в России пить водку евреям нельзя, можно только немцам и татарам. Почему он так сказал, сам не знаю — просто хотелось ему громко что-нибудь сказать о евреях, тон был какой-то мерзкий. Я ему тогда и говорю: раз татарам и немцам, то тогда уж и французам можно. Почему, он говорит, и французам? Потому что, говорю я ему вежливо, им как раз всем троим в России по жопе дали. Все его шестерки за угол смеяться побежали, он стоит молча, а во мне такая радость играет! Вскоре после этого, правда, я ни за что строгий выговор схлопотал, не нашел он другого способа мне ответить.
Тут все трое на меня посмотрели, потому что очередь была за мной.
— Я, ребята, — сказал я честно, — и сейчас острую радость испытываю от того, что с вами здесь троими нахожусь. Так что вы сидите не зря, очень бы мне без вас херово тут сиделось.
Здравствуй! Снова пишу тебе письмо, которое не буду отправлять. Замечательное у меня теперь есть место, где писать и прятать свои бумаги. Раньше это сложно очень было, где я только не рыскал по зоне, чтоб найти укромное местечко. И вот нашел. В больничке нашей лагерной, в санчасти. Нет, не бойся, я здоров совершенно. Безнадежно, я бы сказал, здоров (тьфу, тьфу, тьфу, ибо здесь болеть нельзя). И в больнице бывают шмоны, только мой курок безупречен (курком здесь именуется место, где что-то прячут, — возможно, от старого глагола закурковать, то есть схоронить, затаить, заначить).