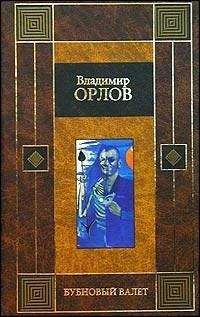В Дмитрове я вышел, даже выскочил из электрички, пришагал в Заречье, в Введенскую церковь. Там молился, упрашивая Спасителя освободить меня от нее. От кого? От чего? От Юлии? От любви?..
Возвышенный любовный опыт мой складывался из книжных видений и романтических фантазий. Юношей я был простак и, возможно, тот самый Единорог. Я учился в мужской школе, только в старших классах нас разбавили девицами. Но та, в которую я способен был влюбиться, не могла, естественно, жить в нашем дворе или учиться со мной в школе. Эти и говорили скверно, и бранились, и вредничали, волосы их секлись, плечи их форменок были обсыпаны перхотью, под мышками виднелись потные пятна! Эротические мои восхищения возникали при наблюдениях за фигуристками на телеэкранах. Влюблялся же я в киногероинь (не в актрис, а именно в их героинь) либо же в дам из романов, в Агнессу, скажем, из “Копперфильда” или в подругу шотландского воина Квентина Дорварда. В случаях студенческих увлечений я маялся, то и дело соотнося своих приятельниц с идеальными. Цыганкова была для меня единственная, и сравнивать ее с кем-либо не возникало нужды.
"Этак я опять раскисну!” – отругал я себя уже на Савеловском вокзале. От вокзала до дома добирался минут двадцать, обещая себе, что устою и выдержу. Раскладушка в сарае более не устраивала меня, надо было набить вещами чемодан и на неделю переехать к Алферову. “Хоть бы не оказалось ее в квартире!” – выказывал я пожелания судьбе.
Ее и не оказалось. Открыв дверь квартиры, я сразу же услышал от жены Чашкина, Галины:
– Василий, а твоя-то… сестрица-то… умчалась куда-то часа полтора назад… Ей позвонили, она долго стояла с трубкой у уха, потом затеребенила сама нервно, я не прислушивалась, видно, что она взволновалась, бросилась в комнату, через пять минут выскочила и улетела.
– Ничего не сказала? Мне ничего не велела передать?
– Сказала только, что ей нужно на Киевский вокзал. И все. Она и по телефону говорила о Киевском вокзале.
Дабы отменить недоумения и вопросы Чашкиных, я был вынужден произвести разъяснения вслух. Будто бы самому себе:
– Ага. Понятно, она предупреждала. Ее, как спортсменку, заманивал и Киевский университет. Наверное, сообщили, что у них хорошие условия, она и обрадовалась. Что ж, оно и к лучшему. И для нее. И для меня… А то бы пришлось возиться с ней…
С чего бы вдруг из Киевского университета решили позвонить мне на квартиру, я выстраивать предположения перед Галиной Чашкиной не стал.
На моем письменном столе лежала записка. “Василий! То, к чему я шла годы, случилось. Я и в газете появилась, узнав, что ты в ней работаешь. Теперь я свободна и должна успокоиться. Я отомстила тебе за Вику. Вика же отплатила тебе три с половиной года назад. Ты можешь посчитать, что плата произведена странным образом. Но мы такие. Или я – такая. Я – грешница. Или даже ведьма. Для своего же блага не подходи ко мне более. И не вздумай разыскивать меня. Ю. Цыганкова”.
Она свободна! “И я свободен! – подумал я чуть ли не в радости. – Как это поет итальянец, Клаудио Вилла, что ли: “Весел я! Милая покинула меня!”
На кухне Чашкина явно хотела мне что-то сказать, но долго не решалась и все же не выдержала:
– Василий, а сестрица-то твоя… часом… не в положении?
– Чего? – растерялся я. – Она мне ничего не говорила.
Галина Чашкина служила кассиршей в аптеке, то есть отчасти была медицинским работником и глаз имела цепкий.
– Мне-то что! – сказал я. – Это ее дела!
– Да нет, я так… – смутилась Чашкина. – Может, я и ошибаюсь…
В комнате моей по-прежнему ощущался запах Цыганковой. Я снова схватил записку. Буквы в ней были выведены довольно аккуратно. А на столе валялся листок бумаги с закорючками, пятнами, перечеркнутыми фразами. Надо полагать, черновик. На обороте листка я прочитал:
"Монастырь… Грешница и ведьма… Монастырь… Ритуал очищения… Очищения ли?.. Свободна ли?.. Ст. Суземка… Зачем все это?.. Зачем все это было надо?..”
Ритуал, значит. Неужели в ритуал очищения входили баня, мытье полов на кухне, в прихожей, в туалете? Очень может быть… Очищения от чего? От мести? От меня? От меня… И это были ее дела.
Станция Суземка. Что-то я слышал недавно об этой станции.
***
В редакции я отыскал Марьина и поинтересовался у него, есть ли сейчас в стране действующие православные монастыри.
– Есть, – сказал Марьин. – Единицы. Но есть.
– И женские есть? – спросил я нерешительно. Мне показалось, что Марьин посмотрел на меня уже с вниманием и интересом.
– Есть и женские, – сказал он. – Один в Эстонии. Еще один в Киеве. Флоровский, на Подоле. Я там был. Есть вроде бы и еще…
– Спасибо за справку, – сказал я.
– Ты чем-то расстроен? – спросил Марьин. – Или озабочен?
– Да нет! Нет! – поспешил уверить я Марьина. – Просто перетрудился вчера в саду-огороде.
Следовало проверить еще одно обстоятельство.
У ребят из сельского отдела я узнал, где проживает приболевшая родительница Миханчишина. В Брянской области, на юге ее, километрах в двадцати от железнодорожной станции. На моем рабочем столе лежали малые атласы мира и СССР. Я держал их не только для дела, порой, когда не приносили полосы, я с удовольствием, будучи московским пешеходом, рассматривал расположение городов, дорог и рек в какой-нибудь области или стране, куда мне никогда не довелось бы ни дошагать, ни долететь. Сейчас на бледно-зеленом пятне Брянской области, надо полагать, если принять во внимание масштаб карт, часах в двух с половиной езды от Киева, я углядел станцию Суземка.
Что ж, посчитал я, и такой поворот истории был возможен.
И все же этот возможный поворот вызвал у меня недоумения. Но, впрочем, события двух последних дней ткнули меня носом в лужу или провели мордой по асфальту, и понимать что-либо в логике женщин я был совершенно не способен.
Я закрыл атлас и притянул к себе, неизвестно зачем, солонку. Держал ее пальцами и смотрел на нее тупо. Какая-то странность в ней стала мне ощутима. Что-то внутри солонки проживало. Я вытянул нижнюю затычку, и на ладонь мне выпал крестик. Нечто и еще оставалось в туловище совы-Бонапарта, мне пришлось отделить голову птицы, и тогда из заточения высвободилась маленькая костяная фигурка. К тому времени я прочитал в “Декоративном искусстве” статью о нецке, миниатюрной японской скульптуре. Мое предполагаемое нецке было зверьком или божком с толстыми боками и щеками, очень мелкое. Я знал, что многие нецке служили талисманами, оберегами от злых сил. Крестик же был посеребренный, явно нательный. Для меня ли предназначались посылки в птице или это были сигналы для другого человека, скажем, с сообщением о каком-то событии или с побуждением к действию? Если для меня, то что они значили? Не возлагал ли на меня неизвестный несение креста, не предупреждал ли о необходимости от чего-то оберечься? И кто был этот неизвестный?
Я выскочил в коридор с намерением узнать, была ли сегодня утром в редакции Цыганкова. Но кому и главное – по какому поводу (по какому праву?) я мог бы задать этот вопрос. Я вернул себя в свою комнату.
Мне захотелось позвонить Валерии Борисовне Цыганковой, я ощутил потребность в разговоре с ней. Но я не отважился набрать номер телефона Корабельниковых.
"Надо ехать! В Киев! – вошло в голову. – И не ехать, а лететь! И сейчас же!” Куда – в Киев? В монастырь. Во Флоровский, на Подоле! Деньги я добуду… И что там делать?
Но, слава Богу, вошла Зинаида, сразу с двумя полосами для чтения, и отменила мою дрожь и блажь.
Ночью моросил дождь, во дворе была темень, но все же у дверного проема в наш подъезд я уловил движение темной фигуры. Я редко бью первым, этаким деликатным воспитан, но, памятуя двухнедельной давности нападение на меня на Третьей Мещанской, я двумя ударами уложил вовсе, может быть, безвинного человека на землю. Я стал ощупывать упавшего, нет ли при нем оружия, будучи при этом в напряжении: а вдруг он не один. Я был нынче в раздражении и мог выплеснуть его на случайных людей. Наша возня и ругань разбудили кого-то на первом этаже, осветилось окно, и я увидел на земле знакомую мне личность.
– Торик! Пшеницын! – воскликнул я.
– Куделин! Это ты, что ли? – выговорил Пшеницын.
С Толяном Пшеницыным, моим одноклассником, он долго называл себя Ториком, мы были приятелями, однажды я выручил его, вернее будет сказать, спас его в жестокой, с финками, драке. После восьмого класса он ушел из нашей школы, потом, говорили, он поступил в военное училище. Я давно не видел его, он заматерел, но не узнать его было нельзя.
– Ты поджидал… меня? – спросил я.
Молчание было мне ответом.
– Ну ладно, – сказал я и протянул ему руку, помогая подняться.
– Я не знал, что это ты. Значит, меня к тебе… – глагола Пшеницын не произнес. – Будем считать, что нам с тобой нынче пофартило.
После недолгого молчания Пшеницын сказал:
– Ты злой стал… А эта дура играет в чужие игры… Ладно, разошлись. Я тебя не видел…. И ты меня не узнал. Нет, и ты меня не видел.