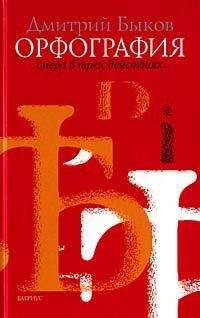— В римском упадке не было ничего музыкального, — сказал Ять. К ним подсел Барцев, и Ашхарумова скользнула по нему любопытным взглядом. Барцев был широкоплеч, конопат, трогательно курнос, под рыжими бровями часто моргали глаза — большие и несколько телячьи. — И я не думаю, — продолжал Ять, — что нас ожидает только упадок. У меня всегда было подозрение, что гибель — наша собственная выдумка, что мы свою гибель принимаем за конец Европы. А между тем наступает конец лишь нашей замкнутости в собственной скорлупе, может прийти свежая сила — как в шестидесятые годы пришли разночинцы, — и жизнь обновится.
— Ну что это такое! — воскликнул Казарин. — Не крестьянство же вы имеете в виду!
— Нет, конечно, не мужика… Я же говорю не о гении от станка или от сохи. Просто сами события придадут сил нам, все тем же нам, — уже появился истинный масштаб происходящего, как в начале войны. Не знаю, как вы, а я тогда радовался. То есть знал, что это постыдно, и в то же время ликовал: всем нашим связям, литературным потугам, внутрицеховым спорам вдруг придали дополнительное измерение. Историей запахло. И заметьте, что в самом августе очень многие стали писать, как давно не писали, — вовсе не о войне… Мне кажется, и сейчас будет что-то подобное.
— Обязательно, — заговорил Барцев и, как часто бывает, взяв сторону Ятя в споре, немедленно сделал его позицию смешной и жалкой. — Вот я читаю сейчас Пушкина — и мне тесно в его словаре. Словарь в несколько сотен слов. Лексикон поэту надо расширять за счет улицы, впускать в стихи техническую речь…
— Ах, да я вовсе не о том, — махнул рукой Ять и закаялся продолжать полемику.
Как всегда, он оказался меж двух огней: Барцев, милое и глупое дитя, понес какую-то новомодную чушь про техническую речь, чтобы произвести впечатление на Ашхарумову, Казарин упивался гибелью, — несомненно, с той же целью, — а он, как идиот, пустился в серьезный разговор о будущем литературы. Опьянение вступало в новую стадию — поднималась тяжелая злоба. Этим людям всегда было безразлично все, кроме производимого ими впечатления.
— Ну, а вы что думаете? — спросил наконец Ять у Стечина, почти грубо прервав рассуждения.
— Я ничего об этом не думаю, — пожал плечом Стечин.
— То есть как?
— Я не думаю о таких вещах.
— Вероятно, вы слишком для этого хороши? — открыто нагрубил ему Ять.
— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — высокомерно отвечал Стечин, отворачиваясь.
— Я вам поясню, — сказал Ять почти вкрадчиво. Он чувствовал прилив настоящего бешенства и знал, что в таких состояниях бывает грозен. — Вы, вероятно, полагаете нужды грешной жизни слишком мелкими для того, чтобы человек вашего круга на них задерживался?
— Я не мыслю в таких категориях, — снова пожал плечом Стечин. — Я не пользуюсь такой лексикой — «нужды грешной жизни», «человек моего круга»… Я не работаю в прессе.
— То есть вам не нравится язык прессы? — еще вкрадчивее продолжал Ять. — Отлично, отлично! Я сам ненавижу его! Знаете, именно необходимость зарабатывать хлеб в газетах — это наследие первородного греха, если позволите, — лишила меня должной высоты взгляда. Я понимаю, какой чудовищной пошлостью должны вам казаться любые разговоры о политике, о размерах хлебного пайка, о деньгах, наконец… Человеку, напрямую подключенному к сферам, из которых истекают ледяные ливни искусства… так, кажется, писал г-н Маринетти?
— Мне нет дела до того, что писали всякие пошляки, — сказал Стечин, не пошевелившись в кресле. Набор пренебрежительных жестов был исчерпан: он уже и отворачивался, и пожимал плечом, к закурил — больше демонстрировать высокомерие было нечем. — Я не понимаю, с какой стати должен отвечать на ваши вопросы.
— Боже упаси, вы никому ничего не должны! — воскликнул Ять. — К вам обратились с вопросом, желая вовлечь в разговор. Тысяча извинений. Мне показалось, что вам скучно…
— С собою мне не бывает скучно, — с великолепным презрением ответил Стечин.
— Будет вам задираться, Ять, — попытался урезонить его Казарин. — Валя — человек другого темперамента, даже я не могу вызвать его на спор…
— Именно не можете! — продолжал Ять, замечая, что никто уже не танцует и не меняет пластинок — все следят за их ненужной, неуместной ссорой, — но остановиться уже не мог. — Пока мы с вами спорим, пока другие идиоты убивают друг друга — Валя покоится на своем Олимпе, совершенный, холодный, пресыщенный всем, признающий из всего мирового искусства только две строчки Рескина, три стихотворения Уайльда, хлястик пальто Метерлинка… Валя, вы любите кокаин?
— Я люблю, когда меня оставляют в покое, — отчеканил Валя. — Я люблю, когда люди знают свою меру и не пьют больше положенного.
— О да, да! Слово сказано: знание меры! Вот оно, истинное знание меры. Валя, позвольте перед вами преклониться: когда бы вы знали, до чего же я люблю людей, которые всегда правы! Ведь вы никогда ни в чем не замараетесь, потому что никогда и ни в чем не будете убеждены. Скажите, Валя: когда вы в последний раз заглядывали в газету?
— Вячеслав Андреевич, — обратился Стечин к Казарину. — Вы разрешите мне уйти? По-моему, я сильно раздражаю этого господина, и он уже не вполне владеет собой…
— Помилуйте, зачем же вам уходить! — пылко воскликнул Ять. — Как можно выживать из дома безукоризненного денди вроде вас. Останьтесь, заклинаю! Ведь ваш выбор предопределен? — он обернулся к Зайке. — Ведь в вашем молодом обществе, конечно, уместнее эстет? Ради Бога, простите, что я позволил себе напомнить о реальности. Реальности нет. Честное слово, я восхищен людьми, идущими на смену! Помните, Вячеслав Андреевич, когда мы пытались усовершенствовать реальность — ничего не выходило; пришли люди, попросту упразднившие ее! И самое поразительное — поверьте, я не так еще пьян, чтобы этого не заметить, — самое-то поразительное в том, что мне решительно нечего вам возразить, — снова отнесся он уже напрямую к Стечину. — Вы умеете каждой своей репликой внушить собеседнику, что он со всеми своими надеждами и опасениями не стоит носка вашего ботинка — о, безупречного ботинка! Вы всегда будете безупречны, а мы обречены на неправоту — хотя бы уж потому, что у нас есть убеждения, а у вас — только ваша безупречность, ваше презрение прежде всякого знания…
— Это вы на нас новые «Листки» обкатываете? — вяло спросил Стечин. — И много теперь платят за этот бред?
А, радостно подумал Ять, он читает «Листки». Но как стремительно переориентируются наши индивидуалисты: уже заговорил от лица всех! Еще немного — и этот кокаинист расскажет мне о вреде пьянства.
— Ну что вы, — почти завизжал Ять в ответ. — Кто же станет теперь платить за это? Я пишу «Листки» единственно по привычке, а питаюсь подаянием. Хожу в гости, пока пускают, и стараюсь накушаться побыстрее. Благодарю вас, господа, я и так уже злоупотребил вашим вниманием. — При общем молчании он отвесил поклон Зайке-хозяйке, зачем-то подпрыгнул и выпорхнул в коридор, не переставая истерически хихикать. Краем глаза он все время замечал упрямый и пристальный взгляд Ашхарумовой, и в нем читалось чуть ли не восхищение.
Он лихорадочно наматывал на себя шарф, когда к нему в прихожую выбежали Зайка и Барцев.
— Останьтесь, — умоляюще сказала Зайка. Она чуть не плакала: вечер испортился так внезапно и незаслуженно! — Останьтесь, пусть как будто ничего не было… да? Я понимаю, вам трудно, сейчас всем трудно… Жалость к ней еще подогрела раздражение Ятя против Стечина.
— Видите ли, Зайка, — сказал он очень спокойно, демонстрируя владение собой. — Мы с этим господином распознали друг друга с первого взгляда. Он любит быть всегда прав, я люблю быть неправ. Разойдемся полюбовно. Простите, что я вам подпортил праздник, но, ей-Богу, это не нарочно. Возвращайтесь к гостям и постарайтесь все забыть. Спасибо, все было чудесно, и вы чудесная.
— Я с вами во многом согласен, — надвинулся на него Барцев. Он был гораздо пьянее Ятя. — Вы точно сказали: хлястик Метерлинка. В наши времена к символистскому искусству уже нельзя относиться всерьез. Они не поняли величия индустриального века, прошли мимо автомобиля…
— Ага, — сказал Ять. — Искусно как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, гвар-ди-он-цам! Да, да, вы тоже, в сущности, прелестный человек. Будете идти мимо — заходите. И вышел.
23
Снег облепил, закружил его, обдал свежестью горящее лицо. Ять все еще не утратил хмельного воодушевления. Ему еще не казался постыдным собственный демарш — напротив, он был вполне собой доволен. Он возвращался на Зеленину, размахивая руками, громко разговаривая сам с собой.
— О да! — повторял он. — Да, вы несомненно представляете новую ступень в развитии человека. Но не спешите радоваться. Заметьте себе, что выигрывает всегда тот, кто проигрывает. Вы друг друга пожрете раньше, чем мы успеем что-либо с вами сделать. Вы не сможете воспроизводить себе подобных, потому что при таком взгляде на жизнь какие же дети? Ледяные, бездушные дети гнилого времени, способные говорить только об искусстве и кокаине… бессмертная гниль! Вот кто расчистил путь темному человеку. Пришли и сказали: можно все. Пресыщенные, усталые, безжизненные, испробовавшие все, кроме самого утонченного зла, — и зло пришло, и остановить его некому. Потому что добро стало смешно, пошло, глупо, жизнь вышла из моды — и вот кого вы все пустили в мир!