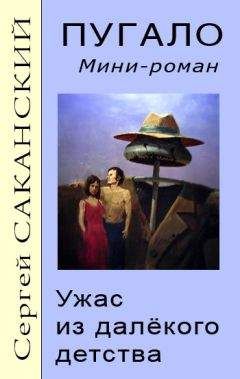На лице у Мэри он обнаружил, кроме знакомых плавных линий, новые морщинки. Джон разглядывал ее дышащее тело. На руках у нее, выше локтя, золотятся тонюсенькие нежные волоски, заметные, если смотреть на них против света. Этот легкий пушок обладал удивительной силой, творившей с Джоном настоящие чудеса. Его ждали большие свершения.
— Я чувствую себя синусоидой, все поднимается и опять поднимается!
Вскоре он забыл свою геометрию, а вместо этого усвоил, что многое на свете можно выправить и сладить и что для этого достаточно усилий двух людей. Он видел солнце, застившее собою все небо. Парадоксальным образом оно одновременно было морем и грело почему-то снизу, а не сверху. «Быть может, это и есть настоящее, когда оно в порядке исключения никуда не бежит», — подумал Джон.
Он услышал голос Мэри.
— С тобой все по-другому, — сказала она. — Большинство всегда слишком торопится. Только дойдешь до главного, и нет его, все прошло.
— Вот именно об этом-то я и думаю уже некоторое время, — отозвался Джон, радуясь ее словам. У него было такое чувство, что Мэри его понимает. Он принялся разглядывать ее лопатку, внимательно изучая, как белая кожа обтягивает выступающую косточку. Он все осмотрел. Самая нежная кожа была над ключицами, от ее вида он опять взволновался, она сулила новое настоящее и солнце, что греет снизу.
Мэри показала Джону, что прикосновения и ласки — это особый язык. На этом языке можно говорить, спрашивать и отвечать. Он позволяет избежать всякой путаницы. Многому Джон научился в тот вечер. Кончилось все тем, что он решил совсем остаться у Мэри.
Она сказала:
— Ты сошел с ума!
Они проговорили до глубокой ночи. Приняв решение, Джон от своего уже не отступался. И если кто-то нынче хотел попасть к Мэри, тот натыкался на запертую дверь и, прождав напрасно, уходил несолоно хлебавши.
— Я рад, что теперь мое тело умеет делать все, — прошептал Джон.
Мэри Роуз растрогалась:
— Теперь тебе не нужно три года странствовать по свету, чтобы убедиться в этом!
Перед постоялым двором «Уайт Харт Инн» стоял старик Эйскоф. Ему было восемьдесят лет, и шестьдесят пять из них он прослужил солдатом, успев повоевать не только в Европе, но и в Америке. Он приходил сюда каждый день встречать почтовый дилижанс и внимательно вглядывался в лица сходящих пассажиров, пытаясь определить, откуда кто прибыл.
Младшего Франклина он узнал по тому, как он двигался. Старик вцепился в него мертвой хваткой и не хотел отпускать. Ему хотелось первому узнать все новости.
— Вот оно как, — сказал он напоследок. — Значит, присмотрел уже себе местечко на новом корабле, да еще на большом! Стало быть, скоро опять пойдешь сражаться, Англию защищать.
Поговорив со служивым, Джон направился в сторону родительского дома. Солнце карабкалось по ветвям фруктовых деревьев. Сколько он себя помнил, он всегда мечтал только о том, чтобы уехать отсюда куда-нибудь подальше. Его надежда устремлялась в неведомые дали, а сам он в это время глядел на эти трубы, на этот крест, что стоит посреди рыночной площади, и на то дерево, что растет перед самой ратушей. Быть может, тоска по родине — это всего - навсего желание снова испытать то старое чувство надежды? Он решил, что это следует обдумать, и поставил свои вещи на землю, рядом с крестом.
Ведь у него сейчас тоже есть надежда, совсем свежая. Она гораздо более осязаемая, чем та, прежняя. Откуда же тогда берется тоска по родине?
Наверное, когда-то все здесь было мило его сердцу, но это было в те времена, о которых у него не сохранилось воспоминаний. Теперь же тут все казалось скорее чужим. Запах нагретой весенним солнцем стены в Вампоа был ему, пожалуй, даже роднее, чем запах этих ступенек, ведущих к кресту. И все же в нем продолжало жить какое-то смутное ощущение давно забытой любви.
— Н-да, волнительное это дело — возвращаться домой, — услышал он голос старика Эйскофа, который, оказывается, всю дорогу шел за ним. — Так и хочется сесть посидеть.
Мичман Джон Франклин поднялся со ступенек и отряхнул пыль с панталон. Он думал о том, что такое любовь к отечеству — чувство долга или же врожденная привязанность? Старого вояку о таком, конечно, не спросишь.
Дом в узком проулке принадлежал теперь чужому человеку, оказавшемуся немногословным толстяком, который на все говорил только «угу» или «хм», выражавшими у него и приветствие, и объяснение, и прощание.
Родители переехали жить в дом поменьше. Матушка смотрела на Джона радостными, живыми глазами и называла его по имени. Они сидели в тишине, потому что отец почти ничего не говорил. Выглядел он печальным, и Джону стало его жалко. Неужто у них совсем нет денег? Ведь у отца было порядочное состояние. Джон предпочел об этом не спрашивать. Он знал наперед, что услышит в ответ, мол, прошли хорошие времена. На вопрос о Томасе отец односложно ответил, что тот командует теперь местным добровольческим полком. Они покажут этому Наполеонишке, если он попробует сунуться в здешние края.
Дедушка совсем уже оглох. Он смотрел на всякого, кто обращался к нему, долгим взглядом и говорил:
— Можешь не кричать, я все равно ничего не понимаю. Все, что нужно, я и так знаю, и ничего нового мне никто сообщить не может!
По дороге к дому Энн Джон попытался вспомнить лицо Мэри. Но оно никак не складывалось у него, и это его очень удивило. Как же можно забыть черты лица человека, если ты его любишь? Хотя, наверное, именно поэтому и забываешь.
Энн Флиндерс, урожденная Чепелл, заметно округлилась. Она обрадовалась, увидев Джона. О неприятностях, постигших Мэтью, она уже была наслышана.
— Сначала адмиралы, потом французы! А ведь он никому ничего дурного не сделал!
Она была грустной, но плакать не плакала. Она расспросила его о, путешествии, ей хотелось знать все до мельчайших деталей. Под конец она сказала:
— Они поплатятся еще за это, проклятые французы!
Потом он навестил Лаундов, родителей Шерарда.
Последнее письмо от Шерарда пришло из Шир-
несса, и с тех пор они о нем ничего не слышали. А то, что он отправил вместе с Мэтью, наверняка конфисковали. Из порта Джексон он не написал ни строчки. Джон подумал о той земле, к берегам которой собирался отправиться его друг, мечтая о стране за синими горами, где реки все текут на запад и куда устремляются каторжники с Ботанического залива, если им, конечно, удается вырваться на свободу.
— Он живет в стране, где очень много зелени и всегда хорошая погода, — сказал Джон. — Вот только с почтой там неважно, — добавил он.
Жизнь в Инг-Минге стала гораздо хуже. Людей прибавилось, а еды — убавилось. Лаунды пока еще держали корову. Но скоро ей будет нечем кормиться, слишком малы теперь стали общинные угодья.
— Богачи берут и переносят свои заборы, а на оставшемся пятачке сметается все подчистую, одна лысая земля торчит!
Папаша Лаунд был молотильщиком. Полтора шиллинга в день, но только во время урожая. Его супруга могла бы прясть, да только прялка вместе с медным чайником уже давно были отданы в залог. Тому самому толстому молчуну, который говорил только «угу» и «хм».
— Младшие-то пока все с нами живут, дома, — сказал папаша Лаунд. — Ходим в долину, на марши, работать, там платят побольше. А то так на мануфактуру прядильную наняться можно, туда и ребятишек берут, и летом и зимой. Вот выиграем войну, так, может, дела наши лучше пойдут.
Они показали ему последнее письмо Шерарда. О себе он прочел: «По ночам ему снятся убитые».
Деревня вся как будто вымерла. Том Баркер жил теперь в Лондоне, учился на аптекаря, кто-то служил в армии, многие просто уехали. В церкви по-прежнему стоял Перегрин Берти, лорд Виллоуби, и взирал на собрание пустых стульев. «
Пастух, лежебока и бузотер, был пока еще тут.
Они встретились в «Уайт Харт Инн», и он тут же пустился в спор.
— Подумаешь, эка невидаль, обойти вокруг света! Для этого мне не нужно болтаться по морям, — сказал он. — Земля-то вертится сама собою, так зачем мне еще суетиться?
Джон терпеливо слушал его речи.
— Но ты ведь вращаешься вместе с землею, — ответил он, — значит, ты остаешься всегда там, где ты есть.
— Но ноги-то мне все равно поднимать приходится, — хихикнул пастух.
Потом они заговорили об общинных угодьях.
— И знаешь, что удивительно? Чем больше ртов кормится на этом лугу, тем меньше он становится! Ну, не чудо ли?
— Я не верю в чудеса, — ответил Джон. — Это все детские сказки.
Пастух допил то, что у него еще оставалось, и пошел, как всегда, хорохориться:
— А вот и заблуждаешься, любезный! В экономике всякая мысль начинается с удивления! Слушай, герой, а ты хоть посылаешь своим немного денег?
Глава девятая ТРАФАЛЬГАР
Доктор Орм ошарашенно смотрел на Джона и ничего не говорил. Потом он вскочил и радостно воскликнул: