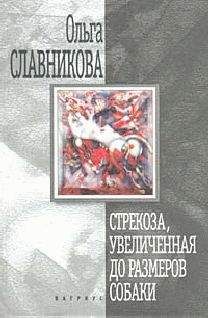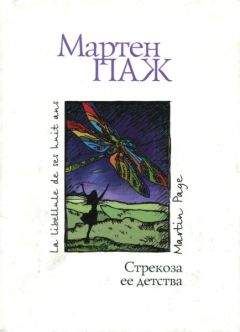Между тем девчонка обозленным шепотом – как будто Софья Андреевна должна была понять ее давно и безо всяких слов – объявила, что отправляется спать и что ей вообще непонятно, на фига они сюда притащились и какого фига она должна отвечать всяким дуракам на, их дурацкие вопросы. Поднимаясь, она шипела все громче и боком напирала на мать, будто на запертую дверь, нисколько не стесняясь того, что многие лица застыли посреди своих разговоров и даже старуха, давно уснувшая и ставшая неразличимой среди навороченного на койке тряпья, выпростала крошечную головку и уставилась на внучку из-под вощеных желтоватых прядей, придававших ее полуслепому взгляду какой-то дикий блеск. Поспешно вставая и выпуская дочь, Софья Андреевна подумала, что все, слава Богу, уже закончилось. Ее благодарственных и прощальных слов никто не воспринял, застывшие лица так и не обратились к ней, только глупые почтальонкины черты исказились плачущей гримасой да кто-то горлышком бутылки клюкнул о рюмку Софьи Андреевны и булькнул водки, полагая, видимо, что это тост.
Девчонка уже пробиралась вперед все той же нелепой походкой, будто шла по канату. Софью Андреевну раздражала эта неуместная игра, очередная бездельная дурь, ее оскорбляло хамское поведение дочери и собственное подобострастие, с каким она улыбалась каждой подвернувшейся на их пути физиономии, пытаясь различить на ней следы столкновения с презрительным дочкиным взглядом. В то же время Софья Андреевна против воли была благодарна девчонке за это презрение и бесцеремонность – за то, что она сама, безо всякого вмешательства матери, не захотела даже выяснить, кто из этих разгоряченных мужиков с младенчески большими, как бы неотвердевшими головами есть ее родной отец. Поэтому Софья Андреевна молча стерпела тон, каким девчонка велела ей отвернуться, когда присела у сарайки в самом темном и бурьянном углу двора, на каких-то кракающих стеклах. Краем глаза Софья Андреевна все же видела ее, как она смутно и жалостно белела в темноте, уткнувшись лбом в расставленные коленки, как выронила что-то растряхнувшееся в воздухе и долго шарила около себя, одной рукой придерживая между ногами собранные трусики. Софье Андреевне вдруг показалось, что дочери не двенадцать, а два, что она все та же плотная тяжеленькая дынька, которую можно подхватить и унести,– и когда они наконец, загребая руками в темноте, приплыли в чулан, Софья Андреевна даже удивилась своему желанию погладить дочкины волосы, к которым пристала переломленная былинка.
Однако в чулане было нехорошо. В отсутствие временных хозяек кто-то повалялся на койке: одеяло горбилось па полу, туда же свисал тяжелый сальный матрас, открывая проржавелую кроватную сетку,– сквозь нее ослепительный свет горевшей все это время лампы достигал каких-то каменных от пыли банок, по которым текли, разбегаясь в глазах, мелкие паучки. Все вокруг было усыпано белесой, цвета плесени, травяной трухой и крошевом березовых веников – их черные обтрепанные лопасти нагромождались в гремучие вороха, покачивались на потолочной балке вместе с ветхими скелетами каких-то лекарственных Трав и ситцевыми колкими мешками. Кто-то дракой или любовной игрой потряс это растущее вниз головой прошлогоднее лето – под ногами похрустывало, как на сковородке, и когда Софья Андреевна нагнулась подобрать одеяло, ей показалось, что сейчас оно тоже хрустнет, будто горелый сухарь. Пока она вытряхивала и стелила постель, натягивала на матрас грубую, как фанера, простыню, раскаленная лампочка, наплывая то слева, то справа, обдавала волосы и лоб и была как живая, а дочь стояла словно мертвая и не шевельнулась ни подхватить, ни поддержать. Будто нечаянно Софья Андреевна погладила ее по опущенной голове – девчонка не дернулась, не зашипела, но ее черты, застигнутые врасплох, как-то странно обессмыслились, и ту же самую бессмысленность Софья Андреевна ощутила на своем лице, когда отнимала руку, машинально доламывая снятую соломину.
Не дожидаясь, пока мать закончит заправлять, девчонка полезла на койку, по-мушиному счесывая с ног сандалии, выворачивая с себя одежду и утягивая ее, недоснятую, под забираемое без остатка одеяло. То не была усталость после тяжелого дня – то была ее обычная злая лень, потому что девчонкины глаза, какими она, устроившись, смотрела на мать, вовсе не были сонными. По ним, прозрачным и блестящим, как зеленые стекляшки, Софья Андреевна поняла, что девчонка не уснет по меньшей мере несколько часов, как это часто бывает дома, когда они лежат головами в разные стороны комнаты и блуждают по потолку, пугаясь на нем всякой шевелящейся черной нитки или уличного отсвета, потому что это означает встречу взглядов,– а привычная химера люстры делается человекообразна и похожа на бальное платье из висячего хрусталя. По сравнению с домашним здешний потолок, с его сыпучей мертвечиной и дико неподвижными тенями листьев – буквально тенями прошлого,– казался гораздо страшней. И как ни хотелось Софье Андреевне побыстрее лечь – из-за неэкономной длины шнура освещенная, жилая часть чуланки казалась низенькой, пригибала,– все-таки она замешкалась, ища последнего на этот потерянный день занятия. Щеки дочери были, точно у двухлетней, вымазаны шоколадным тортом. Софья Андреевна знала, что никакая сила не заставит угрюмую дочь хотя бы стереть эту клоунскую раскраску намоченным полотенцем, но ей нестерпимо захотелось умыться самой – хотя бы размочить огородную пыль условного Ижевска, готовую вот-вот окаменеть на лице серой маской подобострастной вежливости. Доставая из сумки полотенце, она спокойно сказала дочери, что скоро вернется, чтобы та никого не боялась. Дочь, подпрыгивая на попе, что-то там у себя поправляя, только равнодушно хмыкнула. Невозможно было понять, о чем она в действительности думает: взгляд, каким она проводила мать, был чем-то очень похож на бесстрастное свечение перекаленной лампы, в которую крупной черной дробью стреляла мошкара.
Но как только дочь, своим неведением об отце делавшая Ивана несуществующим, оказалась закрытой в чулане и на всякий случай заложенной на тугой наружный крючок, все вокруг непостижимым образом изменилось. Стоя посреди непроглядной, с золотыми плывущими кругами темноты сеней, Софья Андреевна почувствовала то же, что и несколько часов назад, у вечереющего пруда, где краски, маслянисто-темные у дальнего берега, становились чем ближе, тем светлей и ложились у самых ног кромкой нежного, сияющего счастья – делали место, где стоишь, самым лучшим и счастливым, как никогда не бывает в жизни,– и теперь, среди глухих иллюминаций внутреннего зрения, Софья Андреевна опять ощутила, что Иван совсем недалеко. Тотчас из мягкого угла, откуда густо несло овчиной, вывалилось какое-то горячее существо и, жарко дыша, будто задыхаясь от тихого смеха, потащило Софью Андреевну на улицу.
Там, на крыльце, гладко вдоль ступеней освещенном луной, существо оказалось носатой стряпухой: кримпленовые розы на ее расплывшемся теле сделались пепельными, улыбка на бесформенном лице темнела, будто шелковая вышивка. Внезапно, прижимая плоский палец к губам, она закивала на двор, где из одной до предела натянутой тени в другую шла, озираясь, статная в белой водолазке, как портновский манекен, почтальонка Галя. Она заглянула за дрова, за неясную телегу под навесом, груженную чернильной темнотой и задиравшую мертвенно-тонкие оглобли к пылающей луне, постояла подбоченясь: ее приятный зад сердечком вызвал у Софьи Андреевны желание выйти и отчитать ее, как она всегда отчитывала своих грудастых и задастых старшеклассниц, не умеющих скрывать себя под формой, как требует школьный устав. Однако сейчас Софья Андреевна продолжала стоять в оцепенении, позволяя стряпухе держать себя за талию. Взвизгнула, отпахнувшись каким-то плясовым молодецким жестом, расшатанная калитка – Галя прошла в огород. Тотчас, не теряя ни минуты, стряпуха потянула Софью Андреевну в противоположную сторону, и уличная калитка отворилась перед ними совершенно беззвучно.
Темные избы стояли вдоль улицы строго друг напротив друга и пошевеливали серыми флагами; транспаранты, протянутые между ними, обвисли, спрятав в складках праздничные лозунги. Луна с воспаленной кромкой, будто губа в простуде, своим пыланием делила все, подобно себе, на астрономически контрастные части: невидимые стороны деревьев и домов только угадывались как бы влажными отпечатками на непроглядной темноте и переходили в свет с теми же мучительными подступами, с тою же дырявой рябью, что рисовалась в небе по лунному диску,– гладкими были только привязанные к флагам, трущиеся на ветру воздушные шары. Стряпуха и Софья Андреевна быстро прошли вдоль двух или трех опутанных тенями палисадов; дальше тяжело стояла на отскобленном дугою песке приоткрытая створа из толстых досок, вероятно, гаражная: из щели мягко тянуло бензином и голой землей. Стряпуха, хихикнув, с пьяной силой толкнула Софью Андреевну к гаражу и сама пошагала прочь на цыпочках, взмахивая руками, фукая спадающими туфлями, будто ведьма, напустившаяся со своей нелепой пляской на стоящие стоймя при лунном свете перья молодой травы. В гараже послышалось шероховатое царапанье: первая спичка, поежившись и постреляв багровой серной сыпью, сразу же погасла, зато вторая дала высокий язычок, от которого заалела пахучая папироса и осветила лицо мужчины, поджидавшего у самого входа. Это был абсолютно трезвый, серьезный, до атласного лоска выбритый Иван.