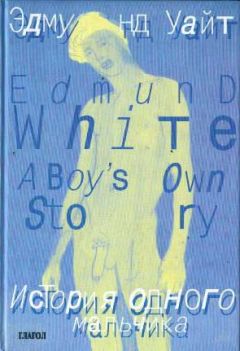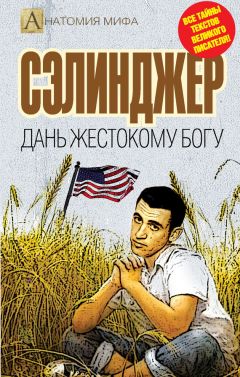Дабы побороть мои сомнения, Ральф меня загипнотизировал. Не много произнесенных нараспев слов понадобилось ему, чтобы погрузить меня в глубокий транс. Как только я подпал под его чары, он велел мне слушаться его, и я подчинился. И еще он сказал, что, очнувшись, я все забуду, но тут он ошибся. Я запомнил все до мельчайших подробностей.
Если летом моя сестра радостно общалась с другими девчонками, то зимой она вечер за вечером сидела дома и ждала, когда какой-нибудь мальчишка позовет ее на свидание, при мысли о котором она содрогалась. Мама перевезла нас в большую квартиру и шикарно ее обставила — однако в гости никто не приходил. К тому времени сестра пришла к выводу, что ее счастью мешаю именно я. Немудрено, что, имея столь чудаковатого братца, отнюдь не спортсмена, не модника, не классного парня, она никем не принималась в расчет.
Будучи всего на четыре года старше меня, сестра точно знала, что интересует моих одноклассников — какого типа дешевые мокасины, какая красно-белая клетчатая рубашка с короткими рукавами, какого фасона джинсы, какого рода безобидные розыгрыши. Она помогала мне покупать подходящую одежду и показывала, как ее надо носить („Рукава надо закатывать ровно три раза… на сгибах они должны быть туго натянуты, видишь?., и не больше дюйма в ширину“). Она учила меня приветствовать в школьных коридорах как можно больше людей, обязательно запоминать тех, кто здоровается в ответ, и храбро встречать сияющей улыбкой каждый бессмысленный взгляд.
Я составлял список тех людей, которых, по моему мнению, знал достаточно хорошо, чтобы звонить и днем, и вечером, и систематически обзванивал всех подряд. Вскоре список стал таким длинным — не менее тридцати имен, — что для прохождения полного круга требовалось три дня. „Привет, это я. Чем занимаешься? Ага, прямо сейчас… когда же еще, дурачок? Боже… жуешь резинку? И это ты называешь занятием? Ну… я сижу дома. Мать мурыжит меня с этими дурацкими уроками. Да и еще и новая фантастика по телеку… ага, тот самый фильм. Ты? Джейни придет заниматься? Мне нравится ее синий свитер, только черные ботинки у нее какие-то хулиганские. Знаю, знаю, она не хулиганка… воображаю вас двоих на мотоцикле: тррр, тррр… представляешь? Вы с ней: тррр, тррр“.
И так часами, сплошное чревовещание, тошнота пустых разговоров, почти восточное искусство полностью исключать суть и сосредоточивать внимание на бессодержательных оборотах речи, болтовня, порожденная страхом общения, сдобренным страстным желанием, ибо я не только боялся друзей, я также хотел снискать их любовь.
До той поры, до той крутой перемены, дружба была для меня скорее небольшим развлечением, чем наукой. Друзьями были люди, с которыми можно посидеть в кафетерии, которые имели те же увлечения или ходили в тот же читальный зал, мальчишки, столь же безнадежно отстающие на уроках гимнастики, или девчонки в актовом зале, чьи фамилии начинались с той же буквы, что и моя. Расположения этих знакомых я не искал. Я не делал попыток ни вызывать их на откровенность, ни завоевывать их доверие, коим можно и злоупотребить, ни давать им советы. Я почти ничего от них не требовал, ибо, не будучи к ним внимателен, не был я и капризен. В сущности, моим другом мог стать любой. Дружба для меня превратилась в безобидную, бессознательную привычку, которая никому не создавала престижа, которая ни к чему не вела, не вызывала гнетущих мыслей, была такой же обыденной, как дыхание.
Когда сестра учила меня, как обрести популярность, я узнал от нее и кое-что новое. Изобретя какую-нибудь потребность, она ее тотчас же удовлетворяла. К примеру, должен признаться, что она научила меня умерять чувство одиночества, которое жгло меня, как позорное клеймо.
А я несомненно был одинок. От одиночества я испытывал боль и терзался, бился в корчах и покрывал себя им, точно оно было паутиной позора, сплетенной глубоко в моем теле: постыдной, привычной шкурой стыда. И все же гость, которого я с таким нетерпением ждал, гость с обращенной ко мне лучезарной улыбкой, который придет и обнимет меня за плечи (рукой столь худой, что сквозь кожу читается каждая вена, подобно тому, как меж знаками на тонком пергаменте виден свет), — в моих фантазиях этот гость был незваным. Сама мысль о том, что я способен найти друзей, привлечь к себе внимание, снискать чье-то расположение, могла все испортить. Непрошеная любовь — вот что мне было нужно. Учась у сестры, я узнал, что любви, даже дружбы, следует добиваться, что, к примеру, умение слушать, улыбаться, запоминать, льстить, обладает притягательной силой. Иногда, как я понял, друг — всего лишь человек, с которым легче убить время, голос в телефонной трубке, задающий пустые вопросы, один из набитых песком балластных мешков — легких в отдельности, но в совокупности очень тяжелых, — что висят на кольце вокруг гондолы аэростата, дабы замедлить его подъем в холодное, непригодное для дыхания безлюдье. Но сам процесс вовлечения в дружбу, умение не нарушать ее законов — что ж, этого я не отвергал, ибо как я мог отвергать то, в чем так остро нуждался?
Взрослея, я ни разу даже мельком не взглянул на подлесок детского общества, расположившийся за аккуратно подстриженными деревьями класса. Олух — я попросту предполагал, что ребята общаются лишь с теми, кто бывает у них дома. Не подозревал я и о том, что некоторые из них каждый день видятся после школы, вновь и вновь встречаются для прогулок под изменчивым лиственным орнаментом из дружеского света и сексуальной тени, в бликах иллюминации, ничего общего не имеющей со строгой решеткой взрослых свиданий. Пользовавшийся известностью мальчишка по прозвищу Мясник был сыном хирурга-ортопеда; его девчонка была дочерью разносчика магазинных заказов.
В подвале ее дома они каждый день занимались любовью. К пятнадцати годам они пробыли любовниками уже три года, и друзья видели в них старших, умудренных опытом наставников — настоящих родителей, — к которым можно обратиться за советом. В полпятого или в пять мы все заходили к ней. Они поднимались из подвала, улыбающиеся, раскрасневшиеся, его пальцы — на пуговицах ширинки, ее — подтягивали на четверть оборота клетчатую юбку, дабы оказалась на правом боку огромная английская булавка. Потом она пекла шоколадное печенье, а он гонял во дворе футбольный мяч. Нашим родителям достаточно было сказать всего одно слово, чтобы впрыснуть нам в вены жгучее чувство обиды, но эти родители, бывшие моложе и лучше, доведенные до зрелости не годами, а страстью и ее переходом в печаль, казались нам снисходительными опекунами, он — со щербатым зубом и пеной потных вьющихся волос на затылке, она — с давним детским шрамом, который белым блестящим швом перечеркивал бровь, и с грустной улыбкой. Даже наш ужин, состоявший из холодного молока и горячего печенья в оспинах жидковатого шоколада, был чудесной, безжалостной пародией на еду для детей.
Поначалу я понятия не имел, как приобрести подлинную популярность. Другие дети росли вместе и относились друг к другу более или менее благосклонно. Разумеется, некоторые из них усердно зарабатывали себе популярность, однако другие предпочитали после школы смотреть в одиночестве телевизор и попивать пивко, а кое у кого были и особые интересы (шитье, драматическое искусство, статистический ежегодник, мировая политика), на основе которых образовывались немногочисленные тесные группировки, слишком периферийные, чтобы принимать их в расчет. Но были и такие, кто, благодаря внезапному расцвету телесной красоты или спортивного мастерства, сделались лидерами, ничуть о том не заботясь. При этом оставалась немалая „золотая середина“, те из нас, у кого не было ни своеобразной маленькой ниши, ни врожденных отличительных признаков (за исключением, быть может, мозгов или денег, причем ни то, ни другое большого значения не имело), и популярность мы могли завоевать только благодаря „личности“. У девчонок личность была, конечно, более ярко выражена, чем у мальчишек, но некоторые мальчишки тоже имели индивидуальность подобно тому, как шутник имеет про запас анекдоты или соблазнитель — бутылку хереса. Нечто фальшивое, а значит — постыдное.
Я сосредоточил свое внимание на самом популярном мальчишке во всей школе. При этом я рассудил, что, сумев набиться к нему в друзья, завоюю расположение всех остальных. Думаю, в целом моя стратегия была правильной. Поскольку я не отличался крепким телосложением, мне нечего было предложить людям, кроме льстивого зеркала своей заботливости — услуги, которая вполне соответствовала моему мягкому, скрытному характеру.
Точно не помню, как именно я познакомился с Томми. Первое, что всплывает в памяти при мысли о нем, это гладкий колпак лоснящихся светло-русых волос со щегольски торчащим тонким плюмажем вихра, склоненная над книгой в читальном зале голова, принадлежащая тому, кто, по слухам, является капитаном теннисной команды, вождем простого люда и ухажером Салли. Потом, без всякого перехода, он становится моим другом и всячески старается растолковать мне свой особый взгляд на сартровскую „Тошноту“, пока мы идем, отбрасывая ногами осенние листья.