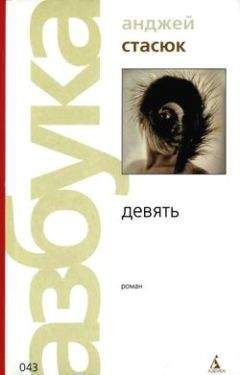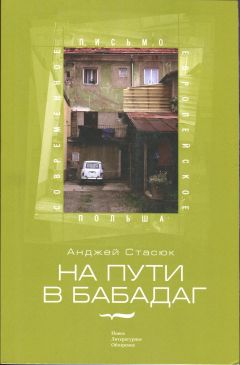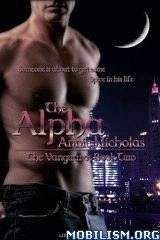– Не надо ревновать, Панкратий. Пан Павел человек, а ты кот, – прервала она ненадолго свой рассказ, а потом снова вернулась на темную лестницу, где стояла в надежде, что сейчас откроется дверь и в яркой полосе света она увидит голубую джинсовую рубашку. Ту самую, в которой он так часто приходил в магазин и которую она так любила, что в один прекрасный день купила себе похожую и надевала ее дома, когда была одна, прямо на голое тело, чтобы чувствовать ее прикосновение. Как, например, сейчас. Но дверь никто не открывал. Она долго стучала, все громче и громче. Потом опять принималась искать на ощупь кнопку звонка, потом снова стучала, пока у нее не заболели костяшки пальцев, поэтому несколько раз она стукнула кулаком. И тогда сзади раздался голос:
– Нету. Ушел вчера утром и с тех пор не приходил.
Ч. ай был некрепкий и сладкий. Старушка всыпала три ложечки и размешала:
– На здоровье, дитя мое, на здоровье. На дворе, наверное, холод.
На стене висела большая икона с ликом Иисуса Христа. За золотистой рамой – засушенные веточки вербы. Пахло ванилью. Из кухни тянуло теплом. На ореховой этажерке лежали кружевные салфетки, и на каждой было по фарфоровой пастушке. Семь розовых девушек в балетных туфельках и венках изгибались в танце под зеленым рододендроном.
– И знаешь, Панкратий, там тоже был кот. Точнее, кошечка. Она бы тебе наверняка понравилась. Такая красивая, длинношерстная, похожая на персидскую, серо-голубая с темными полосками.
Женщина сняла кошку со стула и села сама.
– Я его знаю вот с таких, дитя мое. И мать его знала. Очень набожная женщина. В костел ходила даже в будни, а в воскресенье непременно – к исповеди и святому причастию. Хотя какие там у нее грехи. Это были бедные люди. Бедные, но порядочные. Я его знала с малых лет и плохого слова не скажу. Всегда поздоровается. Она в больнице работала санитаркой, он на фабрике, а Павел бутылки собирал, всегда такой самостоятельный. Ходил за пьяницами и ждал, когда бутылка освободится. Еще сестры были, но они дома сидели. У них был такой маленький домик. Эту квартиру он купил только несколько лет назад. Когда дела пошли хорошо. Родители получили две комнаты в многоэтажке, потому что их домик снесли бульдозером. Шоссе прокладывали. Отец всю жизнь с этим домишком провозился, то и дело что-то достраивал, латал, подправлял, но такое все это бедное было, всего три комнатенки, не больше. Точно не знаю, я у них не была. Так только их знала. Он такой самостоятельный. Тянулся, в церкви прислуживал, всегда в чистом, хоть и чиненом. Не избалованы были. Другие слоняются без дела, а он с мешком, траву кроликам рвать. Тогда кроликов держали. Сейчас уже меньше. Из крольчатины хороший паштет. Осенью грибы собирал здесь в перелесках. Раньше росли здесь. Сейчас меньше. Они их для себя заготовляли, но и на продажу тоже сушили. Я сама видела. Когда ему было четырнадцать лет, он уже на стройку нанимался работать. Тогда строили, но меньше, чем сейчас. Здесь каждый что-нибудь строил, ставил, пристраивал, каждый сам для себя. От силы наймет себе одного помощника. Другие все лето носятся, а он работает. К частникам ходил, в теплицы – гвоздики, герберы, потом фрезии вошли в моду, – а в день Всех Святых я его видела у кладбища, он торговал свечами и хризантемами. Как стал постарше, начал молоко разносить. В три-четыре утра сядет на велосипед и едет на Брудно, потому что здесь многоэтажных домов не было. Разнесет и в школу к восьми. Уже и бриться начал, а не пил. С другими парнями – «привет» и «до свидания». У них был небольшой огородик рядом с домом, так он поставил там парник, накрыл целлофаном и сеял редиску с салатом для продажи. Купил старый мотоцикл, сам сделал прицеп и возил все это куда-то. Но в костел уже меньше ходил. Времени не было. Может, и по воскресеньям работал. Бог простит, потому что это хороший мальчик. Всем хочется жить лучше. В этом нет ничего дурного. Он не пил, не сквернословил, здоровался. Другие воровали, я-то знаю. А он ездил в центр и на раскладном столике торговал. Я по утрам видела, как он с сумками шел на автобус. Две в руках, одна на плече, как раб, беженец какой-то, как русский. А потом стоял на Маршалковской в дождевике из прозрачной клеенки. Один раз я его случайно увидела. Он стоял под дождем, и было плохо видно, что он там продает, все под целлофаном. Меня он, наверное, не узнал. У него взгляд был такой, словно он не замечал людей, а видел что-то далекое, не знаю где. Все шли мимо, никто не останавливался. Ветер трепал его дождевик, вокруг стола была лужа, а он все закрывал целлофаном свой товар, придавливал чем-то, чтобы по краям не затекало. Ведь там даже не видно было, что он продает, вот так, дитя мое, а он все равно стоял. Другие уже все сложили, и он остался совсем один. Как сейчас помню. Через полчаса я ехала мимо на трамвае, а он все был там.
Кошка пошевелилась. Этажом ниже включили музыку.
– Молодые, но все же сейчас Великий пост, – заметила женщина.
Зося пила чай маленькой ложечкой, чтобы время текло медленнее.
– Вы знаете, мне пришлось приехать, с телефоном что-то не в порядке. Все время занято.
– Да, что-то случилось там позавчера ночью. Кто-то к нему приходил. Я уже легла, дитятко, но не могла заснуть, со стариками так часто бывает. Это довоенный дом, стены толстые, значит, очень сильно должны были шуметь. Потом застучали ботинки по лестнице, отъехала машина, а может, две. Не знаю. Я не вставала. Но он, скорее всего, остался, потому что я не слышала, чтобы ключ поворачивался в замке, это всегда слышно. А ушел, наверное, рано утром, я тогда крепче всего сплю.
– Вроде этих? – спросила Беата.
В кафе вошли двое и встали у стойки.
– В принципе да, – ответил Яцек и повернулся к ним спиной.
Один поставил ногу на подножку стойки. Так что был виден белый носок. Другой взял пепельницу и пару раз ударил по прилавку.
– Цапля! – крикнул он в сторону занавеси из бус и пустил пепельницу волчком.
Бармен вышел к ним со стаканом и тряпкой в руке. Вышел медленно, скованно, как в черно-белом кино.
– Давай боезапас, Цапля.
Бармен поставил стакан, сунул руку под стойку и вынул набор бильярдных шаров.
– Кий в зале, – сказал Цапля.
– Принеси нам два пива, – сказал тот, в носках, и оба пошли в темный зал рядом с сортиром. Молочный свет залил стол, но они остались в тени.
– Этих ты тоже знаешь? – спросила Беата.
– Все они на одно лицо, – ответил Яцек. – Как китайцы.
– Китайцы улыбаются.
– А эти что, нет?
– У меня мороз по коже. У них неподвижные лица. Как звери, как псы. Будто у них мускулов нет.
– У псов есть.
– У собак мускулы, только чтобы грызть.
– Знаешь, чтобы что-то сделать с лицом, надо иметь серьезную причину. У них ее нет. И так все всё знают.
Бармен с двумя кружками пива на подносе прошел мимо них, даже не взглянув.
– Делает вид, что тебя не знает, – сказала Беата.
– Иногда так лучше, – ответил Яцек.
– Для кого?
– Для всех, – сказал Яцек и сунул ладонь под волосы на виске.
– Ухо – это орган человеческого тела, слабее всего снабжаемый кровью, – сказала Беата.
– Жаль только, что не прирастает. Как-то странно теперь себя чувствую.
– Очень больно?
– Слабое кровоснабжение, слабая иннервация.
Бармен вернулся обратно и исчез за своей занавеской из висюлек.
В ярком кругу бильярдного света появились ладони, манжеты и кии. Игроки лениво обходили стол. Сняли куртки, но их рубахи казались вырезанными из черной бумаги. Под лампой собирался дым и стоял там.
Шары с грохотом разбежались и кто-то сказал:
– Ну, блин, Сараево.
Никто на них не смотрел, но они двигались медленным пружинистым шагом, словно каждую секунду готовы были все бросить, уйти и заняться делами поважнее. В теле каждого вместо крови циркулировали отражения и тени собственных поступков, и кожа принимала их форму, как перчатка на руке. Они были лишь оболочками, в которые облекалась взлелеянная ими в мечтах действительность, поскольку время, когда сыновья наследовали жесты своих отцов, подходило к концу. Вниз по Тамке[52]ехали автомобили. Водители видели мир в вороненом свете ночи, и ни один из них не пробовал представить себе, что всего этого просто могло бы не быть. «Астры» обгоняли «корсы», «короллы» обставляли «гольфы», «нексы» объезжали «твинго», «ибитцу» ехали ноздря в ноздрю с «альмерами». Река была окутана тьмой. Автомобили ныряли во мрак, как лемминги, чтобы выползти на другом берегу в гнилую вонь порта. Зеленые, желтые, красные, голубые, серебряные и белые, как четки в руках города.
– П…ц, – сказал один из игроков и выпрямился.
Два шара упали в лузы и покатились в утробе стола с нарастающим глухим стуком.
– Может, в пирамидку? – спросил он.
– В е…ку, – ответил его напарник и стал ставить шары для новой партии.
В пепельнице догорало три окурка.
– Скажи ему, чтобы завел что-нибудь, – сказал тот, который выиграл.