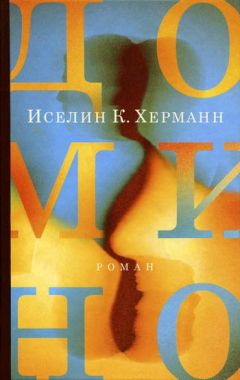Но сейчас другая ситуация: Сабатин не может послать SMS Зэту, так как у него нет устройства, которое могло бы ее получить. Он сидит прямо напротив нее. На ней нет платья. На ней длинные брюки. Но есть нечто общее. Попытка быть решительной. Последовательной. Отрезать. Одно желание. Наказать. В этот момент женщина не думает, что наказывает себя больше, чем его. Но он ведь не пришел в условленный час в условленное место? Он слишком трусливый, чтобы прийти на тайный перекресток между временем и пространством? Может быть, ему хочется прекратить все это? Может быть, но она этого не видит. Не хочет видеть. Она хочет все разорвать, чтобы ее не ранили еще больше. Она просто забывает, что влечение не остановить вердиктом. Влечение к чему? Она же его не знает. Может, влечение именно ко всему тому, чего она не знает и думает, что в нем есть? Влечение к тому чувству, которое связано с ним. Сейчас она внушает себе, что влечение испарится, если она все разорвет. Сейчас. Нет, она не думает. Ее ранили куда-то, где мысли не задерживаются даже на время.
У него начинает сводить правую ногу, и, хотя он кладет в чай два пакетика сахара, во рту у него все еще горький зеленовато-желтый привкус.
То есть у тебя ребенок от любовницы, так?
Послушай, вот что я тебе скажу: связь с Моникой Левински не стала бы скандалом, если бы Овальный кабинет находился в Елисейском дворце. И когда о дочери Миттерана узнала общественность, это не произвело большого впечатления. Он просто был настоящим развратником, настоящим французом.
Почему?
Почему это не стало скандалом, таким же, как Клинтон-Левински?
Мне все равно. Почему?
Его взгляд трудно разгадать. Во всяком случае, его не может разгадать она. Почему ты звонила моей жене, позволь спросить?
Потому что я скучала по твоему голосу. Намерение никогда не видеть его больше пропало. Ее недавнее высказывание утратило искренность.
И ты позвонила моей жене. Ну, теперь понятно.
Да, но ты сказал, что она знала, что вас должны фотографировать. И вот я подумала… Она лжет, так как правда такова, что она ни о чем не думала, когда звонила… Я подумала, что так как она знала, что ты был у фотографа, то я просто хотела сказать, что фотографии готовы.
И мать… мать моей дочери? Почему ты позвонила ей?
Ты сам все затеял. Я просто перезвонила. С этим разбирайся сам. И с другим тоже.
Но во сколько игр он играет одновременно? Она отодвигает стул, так что он чуть не падает, встает. Ты меня больше не увидишь. Ясно? Если мы встретимся на улице, я тебя не знаю.
У нее зеленые глаза.
Он берет ее за руку. Она теплая. Влажная. Сабатин пробует вырвать ее. Сядь. Присядь же.
По его щекам текут слезы. В две узкие четкие бороздки. Из глаз, по его щекам.
Если тот, кто стоит со всем своим хозяйством на мраморному полу в эксклюзивном магазине одежды, до этого получил штраф за парковку, поссорился со своим сыном-тинейджером, и у него украли бумажник, пакет для него является просто еще одним ударом судьбы. К черту все. И вот он плачет теми слезами, которые в детстве невозможно было сдержать, когда большие дети начинали издеваться, а взрослые давали тебе незаслуженный шлепок. Плачет непроизвольно. Бессилие — одно из самых опасных чувств, потому что пассивность, бездействие создают пустоту, черную дыру, которая всасывает в себя всю окружающую энергию.
Сабатин думает, что эти слезы — из страха ее потерять, и они затрагивают в ней чувства, родственные материнским. Она садится напротив.
Ей хочется что-нибудь ему подарить. Но единственное, что есть у нее в сумке — то единственное, что она подарить не может. Черная лаковая коробочка с красной печатью и золотыми буквами. Это тебе!
Что это?
Секрет. Отцовский подарок. Теперь это должно быть у тебя — это то, что я больше всего люблю.
Ты — чудо. Но не стоит, спасибо. Такие вещи не дарят.
Коробочка стоит посреди стола. Руки Сабатин на столе, ладонями вверх. Он наклоняется и целует сначала одну, потом другую ладонь. Сморкается в бумажную салфетку и зовет официанта. Праздник все-таки не отменяется, так что мы хотели бы два бокала шампанского.
Это уж слишком. Смеется она.
Сказал «а», так и говори «а»!
Что он имеет в виду? Может, он сам не понимает, но звучит забавно.
Дорогая, не надо. Он отодвигает коробочку. Но все равно спасибо.
Как мотоциклы звучат по-разному в первой и во второй половине дня, так и шампанское разное на вкус в разных ситуациях. Они опять пьют «Вдову Клико». Но сегодня оно другое. Лучше, чем в прошлый раз.
Пойдем, говорит он внезапно. Я должен тебе кое-что показать. Он берет ее за руку и тащит вниз по лестнице. Голосом гида он говорит: здесь по левую сторону вы видите телефонную будку, откуда можно осуществить как входящие, так и исходящие вызовы, по правую руку от вас мужской туалет, а здесь — женский. Он находит в кармане двадцать сантимов.
Нет, Зэт, это нехорошо!
Он затаскивает ее туда, расстегивает на ней блузку, целует шею. Пуговица от пояса ее брюк со звоном приземляется на пол. Пуговицы, молнии, застежки, одежда. На ней только бюстгальтер, когда он входит в нее. Она видит его искаженное лицо в зеркале напротив раковины. Сзади. Он закрывает ей рот рукой, так чтобы ее восторг остался у него в ладони.
Зэт, это нехорошо.
Его голос хриплый, когда он открывает глаза и признает, что да, действительно нехорошо. Они смеются, как двое заговорщиков, когда в дверь стучат. Они открывают дверь и на них сначала удивленно, потом возмущенно смотрит женщина средних лет.
Вверх по лестнице он подымается за ней. Этого нельзя делать, учил его отец. Когда они выходят, им вслед кричит официант. Нельзя уходить, не заплатив! Он возвращается и платит. Нельзя быть пораженным стрелой Амура и одновременно помнить все, извиняется он перед официантом, который уже кивает и улыбается, видя, сколько ему дали чаевых. Это понятно всем.
На улице пожилая женщина ждет, пока ее маленькая низенькая собачка закончит свои дела. Зэт перешагивает через лающую собаку, а женщина возмущенно кричит, что так делать нельзя. Нельзя переходить через дорогу на красный свет, идти назад по эскалатору, перепрыгивать через турникеты в метро, проползать под ними и проходить вдвоем по одному билету. Нельзя баловать попрошаек крупными купюрами. Нельзя совать носовой платок в саксофон мужчины просто потому, что он фальшивит, нельзя на людях целовать женщину в затылок или шептать ей что-то, от чего она разражается громким смехом. Нельзя звонить из телефонной будки женщине в красном пальто, которая стоит рядом, и говорить в трубку что-то такое, отчего у нее сильно бьется сердце. Нельзя идти в магазин и покупать кольцо, за которое она потом должна будет отчитываться. Столько всего нельзя. И еще нельзя лгать.
Но она делает это, когда Франсуа спрашивает ее, почему она так поздно пришла.
Эрик звонит мадам Флёри, чтобы сказать, что он задерживается.
Я застрял в метро, сожалею.
Я, честно говоря, тоже. Особенно о том, что вы такой жалкий лгун. Почему вы не говорите, что были в отеле с той женщиной, от которой у вас светятся глаза?
Он не может удержаться. Нет, там я был позавчера.
Это все-таки на мгновение заставило старуху замолчать. Но вы должны знать, Эрик, с тем жалованьем, которое я вам плачу, я вынуждена рассчитывать на вас. Вы все-таки не мальчик, хотя ведете себя именно так. Не хотелось бы, чтобы вы загнали меня в могилу.
Пожалуйста, успокойтесь.
Если бы вы знали, сколько времени я вас жду, вы бы поняли, о чем я. Кстати, от скуки можно незаметно умереть.
То, что вы начинаете ждать меня с утра, вы можете записать на собственный счет.
Возможно, но вы не можете продолжать расплачиваться этой «яичницей».
Не понял.
Ну, этой «яичницей» на брелоке. Это вообще не имеет никакого значения.
Да нет же, это говорит о том, что время может растекаться.
Мадам решает пропустить это мимо ушей. Конечно, может случиться, что что-то происходит, и ты опаздываешь. Но те очертания, которые приобретает день благодаря вам, это вообще ни на что не похоже. Хотя нет, на безответственность! Вы вообще знаете, что такое долг?
Хочу заметить, вы не моя мать, и ваши условия работы, кстати, довольно необычные. Я не знаю, сколько моих коллег из клиники согласились бы на это. Так что, если позволите, я скажу прямо. Мне кажется, вам нужно помолчать.
Взгляд мадам наполняется яростью со щепоткой пикантности. Ну, давайте отправимся на выставку Энгра.
Как твой день в госпитале? Манон намерена казаться заинтересованной и довольной. Ты немного рассказываешь.
Ну, работа как работа. Пациенты под наркозом — народ молчаливый.
А медсестры красивее и моложе, чем мадам Клавель?
Зефир внезапно понимает, что раньше он рассказывал о жизни в клинике Артман. Это было легко.