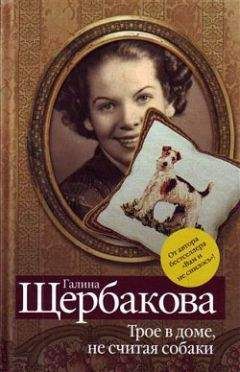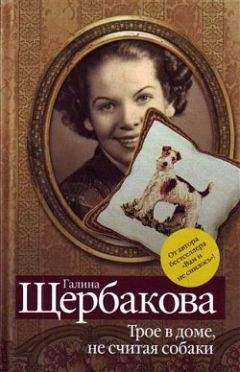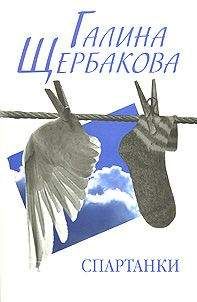«Господи, что она мелет?»
Теперь, после того как Зоя на коленях сползала к ящику и обратно, они уже не сидели близко друг к другу, и Зоино лицо уже не было беспомощным и плаканым, а совсем наоборот… Оно стало широким и покрасневшим, пористым и напористым. И Полина даже глаза прикрыла, чтоб не так давила на нее эта лахудрина плоть. Лично у нее, у Полины, сейчас ноль энергии и ноль сил. Сидит как дура на полу, живая, как ножка стула. А эта раскоряка полкомнаты заняла своей задницей и звучит, звучит! Юбка у нее – солнце, а жопа у нее – палец?! Рвать надо отсюда когти, рвать, пока она не заговорила ее совсем. А то ведь и спятить раз-два…
– …О господи! Что это я про себя… Я ведь хочу вам сказать, как много прекрасного вас ждет впереди, от меня в отличие… Вы разрешите мне жить вашими радостями? Тогда слушайте! У вас родится мальчик. Я вам объясню потом, как его надо будет спасти от перитонита. У меня столько осталось детских вещей. Целый чемодан. Ползунки, кофточки, шубка из мерлушки, просто кукольная! И парта первоклассника. Вполне сохранная, ну, черкал ребенок… Что вы на меня так смотрите? Мальчик умер в тринадцать лет… Вы не думайте! Я уже успокоилась. Я вообще очень крепкая женщина. Вы правы – на мне возить и возить. Это я поддалась минуте, но Бог вас послал… В жизни столько прекрасного: искусство и литература… «Записки охотника» там… Или… «Семнадцать мгновений весны»… Я уже не говорю о победе над фашизмом.
– Что ты мелешь? – не своим голосом закричала Полина, потому что минут десять она чувствовала – у нее умерли ноги. Началось с пальцев – жили-были, раз и нету. Были теплые, влажные, шевелились в кедах, а потом как отсохли.
Лахудра фату показывала, распяливала ее на пальцах, про какой-то марокен молотила, про мерлушку, а по ней, Полине, вверх пошла смерть – с пальцев ног и вверх. Вот она и решила проверить, как у нее – работает еще верхняя часть и голова, умеет ли она говорить? Или уже абзац полный?
– Что ты мелешь? – закричала Полина, убеждаясь, что голова пока живая.
– Деточка! Я к тому, что мы могли бы родиться в рабстве… А мы же в такой стране…
– В какой? – тупо спросила Полина. Живая голова, но соображала плохо.
– Смотрите, какая вы хорошенькая! – Зоя надела на Полину фату, нежно распрямляя под ней волосы.
Полина вскочила на мертвые ноги. Откуда было Зое знать, что за волосы Полину трогать нельзя. Что, чем она мертвей, тем чувствительней у нее кожа на голове! И вообще ей не хватало воздуха, и было ощущение тоски, муки от враз возникшей безысходности всей последующей жизни, ну, нет выхода, нет выхода, нет выхода. А эта лахудра на полу лыбится вся, сияет, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне.
– Как же вам к лицу, деточка! – чирикала лахудра. – Поставить вас на шпильку и беленькое платьице из атласа с широким поясом… Вы будете принцесса… Деточка! Я вас просто вижу… Как живую… в завтрашнем дне.
– Слушай, – сказала Полина, – заткнись, а? Повесь лучше белье.
– А! – засмеялась Зоя. – Бог с ним, с бельем. Я его потом прищеплю.
Полина же вдруг почувствовала, что сейчас, сию секунду, произошло главное – она что-то поняла. Моментно появилось то, что ей надлежит сделать. Вот только – что? Что ясное-прекрасное длилось один миг?
– Заткнись! – крикнула она лахудре. Чертово понятие, блеснув и озарив, вышло из фокуса… Еще бы! Если из этой тетки прет целый бурный поток. – О чем мы говорили? Слышишь, о чем мы только что говорили?
– О белье! – засмеялась радостно Зоя. – Бог с ним. Я хочу вам рассказать про свой инстинкт жизни. Понимаете? Я за нее держусь. За жизнь. Потому что какая-никакая… квартира отдельная! Вы правы! Стиральная машина есть и телевизор… И одежда… Ту же шубку-мерлушку только вынеси к «Детскому миру», а если еще прихватить стол-парту, это я к тому, что нет затруднений с деньгами.
– Ты вроде мне хотела шубу отдать, – думая о своем, сказала Полина. Что-что она поняла? Что она тут же забыла?
– Господи! О чем вы? Конечно, и мерлушка, и фата, и много чего, пусть не очень ценного, – но все равно, где теперь взять? – перейдет к вам… со временем. У жизни – смысл… Я – вам, вы – мне… Получается цепь… Ее нельзя прерывать…
– Поняла! – сказала Полина. – Такая умная, а на свободе… Это – ты!
– Ха-ха-ха! – закудахтала Зоя. – Вы такая шутница, детка…
– Ага! – кивнула Полина. – Я такая… Я – самое то! – Она решительно пошла на балкон и влезла на табуретку. Ветер тут же стал заигрывать с фатой. Пришлось ее нахлобучить покрепче. Зоя расплывалась и двоилась в глазах. Полине даже стало казаться, что она видит сквозь нее, такой несконцентрированной и нематериальной стала лахудра. Как и облака на небе, рваные, суетливые, какие-то дерганые, она сроду таких психованных облаков не видела. Дома же – наоборот – стояли, как вечные каменные бабы, она понятия не имела, что они такие уроды с черными щелями в стенах, грязными окнами, за которыми громоздились стеклянные банки закрученных для голода продуктов. И было ощущение, что все это тянется к ней, хватает ее, и сто лет немытые окна, и банки с желтыми огурцами и зелеными помидорами, и трепещущие на ветру рейтузы всего человечества, а также их наволочки, и колготки, и полотенца, а главное – эта лахудра с могучим инстинктом, сейчас вцепится ей в волосы, и нет у нее спасения – вот, вот что она поняла! – как только вниз фатой – и все… Что бы им сказать напоследок, совкам-бессмертникам проклятым? Что? Господи! Господи! Что это со мной? Мамочка ты моя, ма…
Черной памяти Дориана Грея посвящается
Акме – это расцвет. Это когда ты весь исполнен и наполнен щедротами Бога, природы, мамы, папы… Я знаю еще кем? В общем, в акме ты на пике и, если взмахнешь руками, не бойся разбиться – полетишь как миленький, полетишь как птица. У женщин этот возраст где-то в районе тридцати пяти-шести лет. Дважды акме не приходит: упустил, проглядел – твое личное дело. Это мне объяснил один хороший ходок по женщинам, который своим умным еврейским носом вынюхивал аромат цветения и, будьте уверены, был именно там, где стол был полон яств.
Но однажды на моих глазах одно акме накрылось медным тазом, хотя так цвело, так цвело, что акме не особой силы просто с ума сходили от обиды. Когда пахнет сирень, ромашки прячутся и никнут лютики. Это и дурак знает. Как говорится, не та энергетика.
Фаня работала машинисткой в редакции и была так хороша собой, что временами сбивала график выпуска газеты, если фотокор проходил мимо нее со срочными снимками. В общем, не дай бог было нести патроны мимо Фани. Заглох бы пулемет к чертовой матери. Конечно, ее фотографировали все. И так и сяк.
То было время, когда в голову не могло вспрыгнуть, что за это можно брать деньги – за фотки, что лицо – товар, и прочее. Достаточно было гордости, что ты на первой полосе газеты стоишь под знаменем, что твое лицо на коробке торта и на обложке «Крестьянки». Когда Фаина вышла замуж и родила Ксюшу, конечно, тут как тут объявился фотограф и снял счастливую мать. Плохо получилась Ксюшина лысая головка дынькой, но мало ли с какими головами мы рождаемся – пока пробиваешься на белый свет, вполне ее сомнешь. Потом все выравниваемся. И, как известно, людей с головой тыквой или с примятым затылком, если и есть какое-то количество, то сотые процента. Не больше. А для девочки вообще нет проблем: волосята подрастут, кудрей навьем – ну где ты, где ты, дынька?
Отец Ксюши был местный писатель – два притопа, три прихлопа. Он еще при Хрущеве рассказывал про ужасы раскулачивания, и у него на эту тему был как бы написан роман, но кто ж мог тогда думать о его публикации? Правда, до гласности он не дожил по русской причине: будучи злым на водку, он уничтожал ее в большом количестве, чтоб не досталась молодым.
Когда стало можно публиковать все, красавицу Фаню попросили принести роман покойного Гриши. «Дай, – сказали, – почитать. Сейчас его время». Она принесла в редакцию грязную, в пятнах рукопись, и уже со второй страницы нам стало ухмыляться лицо старого пьяного графомана, который не смог ни рассказать истории, ни приметить деталь или слово – одним словом, ни-че-го. Надо было все вернуть Фане, сказав какие-то слова. Люди робели куда больше, чем надо было. «Господи, – засмеялась она, – да я всегда знала, что из него писатель, как из говна пуля. Это вы над ним квохтали, как клуши. Он же дурак был набитый! Вон и у Ксюшки ума нет, одни двойки по всем предметам. И это в третьем классе! Но в школу слабоумных я ее не отдам – поубиваю всех, но не отдам».
Ну что бы было, считай Фаня роман шедевром? Такое среди жен и вдов существует сплошь и рядом.
Фаня купила бутылку вина, и все с ней выпили в машбюро за упокой Гриши и за упокой романа. «Пущу на растопку», – сказала Фаня. – Она жила в маленьком доме среди больших. Живой Гриша боялся больших домов, высоты, лифтов, лестничных поворотов и татей, скрывающихся на чердаке. Власти уважали Гришу. Уважали и его слабость перед городом. Пусть живет человек с трубой, если ему от нее пишется для народа.