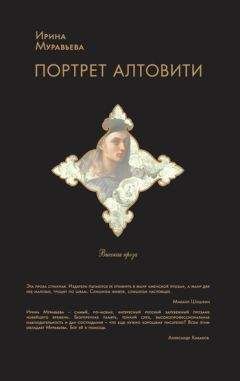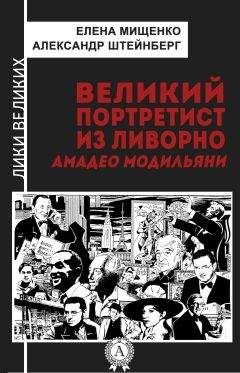Сейчас Ева могла объяснить и это: сил не было, горе съело все их силы. А потом…
О Господи, страшно!
Через год он заболел, и врачи объявили ему диагноз. Доктор Мартон прямо в лицо сказал, что жить ему осталось не больше трех-четырех месяцев. Вернее, не так.
Он сказал: от двух месяцев до двух лет.
И Ричард неожиданно весь переменился, весь стал другим. Сразу же после слов доктора Мартона.
Он стал диким, сварливым, неуправляемым. Заявил, что медицина без конца делает ошибки, особенно в диагностике. На это Ева предложила ему пойти со своими снимками к другому врачу. Он отказался, затопал ногами и закричал на нее. Она поняла, что он боится еще раз услышать правду.
Потом он сказал, что будет бороться, и бросился в русскую аптеку на Брайтон Бич, чтобы купить там чагу, якобы вылечившую в свое время Солженицына. Доктор Мартон, которому она тайно от Ричарда позвонила и рассказала про чагу, грустно ответил ей, что теперь можно пить все, что угодно, – не повредит. Он пил чагу и одновременно с чагой пристрастился к спиртному, особенно по вечерам. Сперва посмеиваясь и пожимая плечами, потом все больше, все чаще, так что в постель ложился совершенно пьяным и спал тяжелым, вздыбленным сном, без конца просыпался, чтобы пойти в уборную, и опять проваливался, бормоча какую-то чушь, постанывая и скрипя зубами.
Она пробовала разговаривать с ним, пробовала его образумить – куда там! Обычная его раздражительность, и без того постоянно приводящая к истерике, – то, чем она особенно мучилась прожитые вместе с ним годы, – дошла в это время до своей последней, кипящей точки.
Совсем уж страшным был один вечер, когда он, пьяный, пошел принимать душ, поскользнулся и со всего размаха грохнулся в ванной – огромная человеческая туша! – и она бросилась поднимать его, приволокла в спальню, водрузила на кровать, приложила лед к разбитому лицу и, рыдая, стала упрекать его, а он посмотрел на нее затравленными, налитыми кровью глазами и, наконец, закричал, отталкивая ее руки:
– Ты! Что ты мне говоришь! Ты здоровая, а я ухожу! Слышишь ты, идиотка? Я умираю! Не ты, я! Умираю!
Так продолжалось, наверное, месяца полтора. Потом наступила ремиссия, и он почти успокоился. Занялся издательством – дела были запущены – и если говорил теперь о смерти, то только как о неминуемом практическом событии, к которому нужно правильно отнестись.
– Глупо, – говорил он, – столько вкалывать, сколько мы с тобой вкалывали, и ничего не нажить. Нет, ты еще меня попомнишь! Я не умру, прежде чем не обеспечу тебя и Сашу. Мне нельзя умирать.
В глубине души она понимала, что эти разговоры, так же, как его внезапное пьянство, были только реакцией на мысль о скором уходе.
Страх смерти сводил его с ума. Он не хотел расставаться со своим большим грузным телом, потому что не знал, куда ему придется уйти из него.
И вдруг все затихло.
Однажды утром Ричард проснулся настороженно-тихим, как если бы узнал обрадовавшую его, но еще непроверенную новость. Набросив на плечи халат и отказавшись от завтрака – хотя он почти уже и не ел тогда, – ушел в кабинет, плотно затворил за собой дверь и не выходил оттуда до вечера. Вечером он появился – взъерошенный, с красным, распухшим лицом. В ту же ночь у него наступили первые по-настоящему сильные боли. Врач выписал морфий, и он начал принимать его перед сном, хотя раньше говорил, что ни за что не даст одурманивать себя.
С каждым днем он становился все мягче и тише. И она, измученная его болезнью, вдруг тоже затихла. Они по-прежнему мало разговаривали, но все, что он теперь произносил, было разумным и доброжелательным. Постепенно он начал все больше и больше спать.
Издательство опять перешло к партнеру.
Саша по-прежнему жил у матери Элизе в Пунта-Кане.
– Мы с тобой не успели поговорить, – сказал ей как-то Ричард.
Был вечер, начало зимы. Она хорошо запомнила, что вечер и, кажется, поздний, потому что, когда он это произнес, она как раз задергивала шторы, и луна – отечная, светящаяся луна – вдруг оторвалась от самой себя и стала тусклым слепым полумесяцем.
– Я мерзко вел себя с тобой.
Она не успела возразить.
– Молчи. Сейчас я, кажется, еще могу что-то сформулировать, а потом уже не смогу. Потому что у меня тут, – он хлопнул себя по лбу, – вдруг начинает все плыть, и наступает такая каша, уже и не разгребешь. Чушь! – воскликнул он вдруг. – Ты даже представить себе не можешь, насколько мы все, оказывается, зависим от этой химии. Примешь таблеточку, и вроде уже и ты – не ты, и мысли не твои. Так что давай торопиться. – Он замолчал испуганно. Она тоже молчала. – Ты никогда не любила меня, – громко сказал он, – и не смогла полюбить. Но не это важно. Сейчас мне даже странно, что я так обиделся на тебя. Когда у тебя была эта… ну, история. Идиотизм. Все это пустые нелепые слова! Никому не нужные! «Любовь», «измена»! Брр-р! Все это глупости. Есть только жизнь и смерть. Больше ничего. Больше ничего! Катя… – Он запнулся, они со страхом посмотрели друг на друга: этого нельзя было трогать. – Когда она умерла, мне показалось, что то, что мы с тобой остались жить, это нехорошо. Стыдно. Родители не должны переживать своих детей, это абсурд… И я честно думал, что живу через силу, что я не хочу жить. А потом, когда мне объявили, что я умираю, – он вопросительно посмотрел на нее, словно надеясь, что она сейчас опровергнет его слова, – когда мне это объявили, я почувствовал, что то, что я думал после ее смерти, – все это не настоящие мои мысли, а вот эта вот охота жить – вот это и есть настоящий «я», другого нету! Жить хотелось, и все. Несмотря даже на Катю. Даже! Ты не знаешь, как я всех вас возненавидел! Всех, кто здоров. Мне кажется, если бы у меня был пистолет, я бы мог убить кого-нибудь.
Она в страхе взглянула на него.
– А теперь ничего этого нет.
Он в недоумении развел руками.
– Если бы ты знала, – вдруг с силой воскликнул он, – как мне трудно выразить это! Нет никаких слов, их не придумали! Я не то что не хочу жить – конечно, я хочу! – но я принял то, что я не буду жить. Ты, главное, пойми меня сейчас, слышишь?
Она запомнила, как он весь дрожал, говоря это: требовал, чтобы она наконец поняла его всего, чтобы она услышала!
Она услышала.
Дикое, бесстыдное – наперекор свежим могилам, уставившим ее жизнь: мать, отец, дочь, муж, – наперекор всему – желание жить.
Жить, жить и жить.
С болью и дурнотой.
С мигренью, с одышкой.
Быть тут, где все.
Она вцепилась в Сашу, но этого не хватало. Не хватало плотского, телесного, прежнего, такого, от чего можно проснуться ночью и не ужаснуться приближению утра, а обрадоваться ему.
* * *
Главное было прилететь в Москву. Она прилетела, они встретились. Теперь нужно ждать. Ждать, пока он привыкнет к мысли о том, что она здесь и все продолжается.
Ни одна размолвка – она ухватилась за эту мысль – не в состоянии полностью разорвать такие отношения.
Если они потеряют друг друга, что им останется?
Пустота и жалость к себе.
Когда двое расстаются и начинают жить каждый сам по себе, они наспех используют все, что попадается под руку: от поиска других привязанностей до болезни и смерти.
На пятом этаже в лифт вошла старуха с вежливым, слабо улыбнувшимся на маленького Сашу, длинноносым лицом, в берете, сверху покрытом вязаным серым шарфом.
Во дворе гуляла другая старуха, с большим белым пуделем на поводке. У нее было густо напудренное и нарумяненное лицо с ярко-оранжевыми тонкими губами, маленькая нарисованная родинка на щеке и еще одна родинка над бровью. К пуделю она обращалась ласково, как к ребенку, называя его «Николаша», и, как только Ева с Сашей вышли из подъезда, она так же ласково обратилась к ним, прощебетав:
– Не боитесь?
И слегка подтянула к себе пуделя.
Саша сказал «Вау!» и тут же полез на сугроб, быстро, по-обезьяньи, загребая обеими руками.
– Нет, не боимся. – Ева невольно увидела Сашу глазами этих старух: худой темнокожий ребенок, на спине рюкзачок в виде зайца с двумя блестящими зелеными буквами на красной грудке: МC – Merry Christmas.[9]
Старухи улыбнулись ей, она им. Длинноносая в сером шарфе поверх берета, так и забыв на лице слабую дрожащую улыбку, пошла в сторону арки, ведущей на улицу. Напудренная, с собакой, судя по всему, очень хотела бы поговорить, но не решилась и громко обратилась к пуделю:
– Сейчас мы пописаем и пойдем домой. А там тепло, а там пирогами пахнет! Ах! – с трудом закатила глаза. – И мы сядем на диван: Николаша сядет, и мама сядет, поставим пирог, намажем его вареньем и начнем пить чай. С пирогом. – Она испуганно стрельнула в Еву остатками слипшихся ресниц: – У нас никого нет, к нам никто не придет. Да, Николаша? К нам никто не придет, потому что все умерли, а мама с Николашей остались. Они испекут пирог, намажут его вареньем, поставят на стол, и никто к ним не придет…
У старухи слегка посинело лицо.