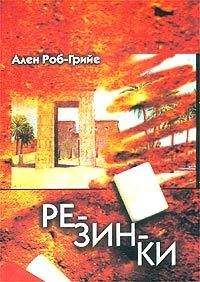«Дагестанский коридор» – это как раз то пространство между Тарки-Тау и Каспийским морем. Через этот стратегический путь из Азии в Европу прошли десятки народов, а теперь там Махачкала.
В Махачкале, кстати, не один, а два городских пляжа. Есть еще загородный. Автомобильную дорогу, заворачивающую к этому пляжу, какие-то живущие поблизости люди перегораживают канатом и с каждого проезжающего самочинно берут по сто рублей. А дальше, к югу, около железнодорожной станции Манас вам встретится довольно чистый песчаный пляж, а еще дальше на юг вдоль побережья – частные территории и базы отдыха, принадлежащие различным предприятиям. Встречается и совсем дикий берег, вроде того, у которого мы как-то жили во время археологической экспедиции. С гигантскими черепахами и крупными ящерицами. Но это уже в поясе полупустыни. Дагестан ведь пересекают несколько климатических поясов. А в горах к тому же на каждом шагу – свой микроклимат.
Погода в горах мне нравится: днем там в меру жарко, ночью прохладно, а воздух – целебный. А вот в Махачкале летом совершенно невозможно оставаться. Особенно гипертоникам. После обеда температура воздуха может подниматься до сорока градусов в тени. Да плюс к этому высокая влажность воздуха, неуемные комары и вездесущая саранча. Спасает только море. Оно не всегда чистое и не всегда спокойное, зато там все еще водятся тюлени.
Это ведь удивительно – в южном море, и вдруг тюлени, разве нет?
...
Когда мне было одиннадцать лет, а моему брату четыре, мама взяла нас с собой в археологическую экспедицию в окрестности селения Великент на юге Дагестана. Археологи копают там уже полвека и находят все больше и больше сокровищ: битком набитые склепы, поселения пятитысячилетней давности, горшки с пиктографическим письмом и многое другое. Лагерь располагался в получасе езды от раскопа на заброшенной базе отдыха. Там были две огромные столовые с тяжелыми чугунными газовыми плитами и несколько, разделенных на комнатки, саманных сараев.
Раскапывать древности приехало много иностранных ученых. Целая делегация из Америки, а еще профессор из Шотландии с ирландской аспиранткой, две испанки и молодой ученый, не помню из какой страны. У него были длинные кудрявые волосы и индейская кровь. Кажется, он страдал депрессией на личной почве, много пил и вскоре уехал, хотя наша повариха, эффектная женщина и последовательница Саи Бабы, стирала ему рубашки и всячески завлекала своей красотой.
Лагерь располагался на песчаном холме, откуда вела тропинка на огромный и пустой пляж. Здесь по белому песку ползали гигантские черепахи, а море было настолько чистым и прозрачным, что было видно, как много в нем дафний и других рачков. К лагерю примыкал обнесенный проволокой лагерь пограничников. Целыми днями пограничники стояли на вышке и глядели в бинокль на американок. Американки были довольно молодые и целомудренные. Они очень скучали по своим бойфрендам и писали им длинные письма со множеством крестиков в конце. Сколько крестиков – столько поцелуев.
Я помню, как любовалась Колин, которая была антропологом. В день ее рождения я сделала поздравительную стенгазету и сочинила стихотворение, которое начиналось словами: “Coleen has wonderful profession / She is busy with skeletions” [90] . На самом деле надо было написать “skeletons”, но я этого не знала. Между прочим, в тот год они копали городище, так что находили в основном керамику и кости животных. Костями занимались археозоологи. Но вдруг неожиданно в катакомбе нашлись кости людей. Скелеты людей, захороненных в городище, а не в могильнике, – это очень странно. Помню, как женщины склеивали черепа из осколков и определяли пол, возраст и даже болезни, которыми страдали при жизни их обладатели.
Я занималась в основном тем, что плавала в море, а потом мыла в тазу добытые за день находки и складывала их сушиться на солнце. Довольно скучная и монотонная работа. Деятельность моего брата была гораздо интереснее. Он изучал насекомых и всякую разную живность. Мучил щенков и закидывал гусят в пруд. Как-то раз он бросил в колодец, из которого мы все брали питьевую воду, дикую кошку, которая фыркала и шипела и никак не могла вылезти. И когда вокруг колодца собралась целая толпа, озадаченная тем, как же вытащить кошку, брат махнул рукой, чтобы их успокоить, дескать, когда он бросал кошку в колодец в прошлый раз, она вылезла сама, по трубе.
А еще брат все время дискутировал на аварском с художником Магомед-Али. Потому что русского тогда еще не знал. Пограничники его, конечно, тоже интересовали, но они были строгие. В казарме они держали кур. Как-то американка Кэтрин решила купить у пограничников яйца. Мама отправилась с ней в качестве переводчика. Но военные только угрюмо повторяли «с иностранцами разговор запрещен» и яиц не продали.
В особенности мне нравился шотландский профессор Стронах. Он говорил, что его фамилия переводится, как «крепкий нос», и что они, шотландцы, – тоже горцы. И постоянно цитировал известные строки Роберта Бёрнса: “My heart's in the Highlands, my heart is not here” («В горах мое сердце»). А еще профессор пел шотландские арии. Его младшая дочь была актрисой в Лондоне, а старшая зачала сына через пробирку. Я тогда впервые узнала, что можно взращивать детей искусственно, а Стронах говорил: «Передо мной стояло несколько пробирок, и я мог выбрать себе внука: этого, другого или третьего…»
Мама профессора Стронаха, к которой он был очень привязан, жила в респектабельном санатории для пожилых под покровительством королевы. И вот как-то раз в наш приморский археологический лагерь пришла телеграмма от королевы Британии. Королева сообщала, что мама профессора скончалась. Сначала профессор горевал в одиночестве. Он держал телеграмму в руках и метался взад-вперед от дерева к дереву. Наконец, дагестанцы узнали, в чем дело, и стали подходить к нему, обнимать и выражать соболезнования, как положено. Стронах был очень тронут и даже расплакался. Он не ожидал такого сочувствия. А прочие иностранцы соболезнований не выражали, у них это не принято.
Недалеко от лагеря находилось село Морское. На любом море то и дело встречаются сёла с таким названием. «Морские» часто сидели на вершинах песчаных бархан и разглядывали нас оттуда, так же, как и пограничники с вышки. То были даргинцы-переселенцы. Еще в том районе жило много смуглых теркеменцев, переселившихся из Туркмении. Их нанимали рабочими на раскопки. Теркеменцы особенно любили одного наивного американского специалиста. Они стреляли у него Camel и учили его русским ругательствам под видом совершенно невинных слов. Повариха и ее мать в это время читали молитвы и обливались холодной водой. Это было одним из необходимых отправлений культа Саи Бабы. С поварихой жил сын Ваня, с которым я дружила. Вместе с ним я рассматривала мертвых тюленей, выкинутых на берег после бури, и панцири мертвых черепах, съеденных дикими прибрежными собаками. А вечерами (которые были очень звездны) он рассказывал мне сочиненные на ходу страшилки про жуткого Крюгера. Взрослые в это время что-то бурно обсуждали. Я помню, что один наш крупный ученый читал свои переводы Пушкина на аварский язык. Повариха с матерью пели казацкие песни.
Как-то к руководителю американской экспедиции приехали жена и дочка. Их багаж потерялся в пути, поэтому дочка, Мирра, носила папины футболки и шорты, которые ей подкалывали булавками. Мы играли с ней в игру «Марко Поло». Правила ее таковы, что один игрок ловит других с завязанными глазами и кричит при этом «Марко», а убегающие отзываются «Поло».
Мирра с родителями даже съездила в горы, в село Гуниб, и там им подарили новорожденного щенка кавказской овчарки. Они назвали щенка Шашлык, потому что им нравилось звучание этого слова. Шашлыка рано оторвали от матери, он был беспокойным и требовал постоянного ухода. На следующий год американский руководитель приехал уже без семьи и рассказывал, что Шашлык вырос слегка нервным.
Кстати, на второй год в экспедицию приехала уже другая повариха. Это была интересная дама с маленьким внуком Фатмиром и с огромным догом. Сама дама была полурусской-полуякуткой. В свое время она вышла замуж за перса и родила двух дочерей. Одна из ее дочерей вышла замуж за полударгинца-полуаварца и родила Фатмира. Официально Фатмир считался даргинцем. А пограничников в этот раз не было. Казарма стояла пустая, вся исписанная солдатскими слоганами. Было странно, что в таком тесном бараке умещалось двадцать человек.
Еще в тот год на раскопки приехал курс студентов-практикантов. Они занимали один из саманных корпусов, целыми днями крутили песню «Крошка моя, я по тебе скучаю» и совсем не хотели работать. А работы было много. Часть экспонатов отправлялась заграницу на радиоуглеродный анализ, и тот показывал какие-то сенсационные датировки.
А еще через год в Дагестан пришли Басаев и Хоттаб, и поэтому американцы не приехали. В школе мы писали сочинения о мужестве земляков-ополченцев и ежедневно смотрели сводки о боях на высоте Ослиное Ухо. Учительница обсуждала с нами героический поступок сельского мальчика-дурачка, не помню из какого селения, который пригласил целую банду вооруженных боевиков к себе в дом, зарезал для них барана, а потом, пока они ели, подорвал и себя, и недобрых гостей. С одной стороны – нарушение закона гостеприимства, с другой стороны – подвиг. Маму этого мальчика позвали в Кремль и вручили ей медаль за сына. Она стояла в золоченом зале маленькая, бедная, в черных шароварах.