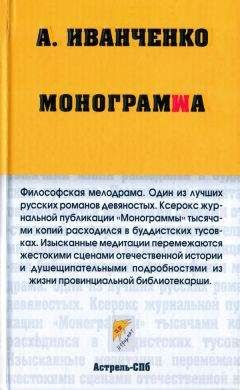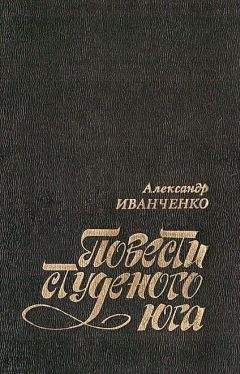Пошла Марина жить опять к Липе, своей давней подруге, она так и работала все на шахте, теперь уже нормировщицей. Детей Липа не нарожала, замуж не вышла, так и жила в доме Вершинина, старик переписал перед смертью дом на нее, жил по-стариковски с ней. Сестра Липы вышла замуж за приехавшего на побывку офицера, уехала вместе с ним на фронт, и с тех пор Липа ничего не знала о них.
Устроила Липа ее к себе на шахту прачкой, ровно как бы по лагерной специальности: стирать-чинить шахтерскую одежду, мыть полы, строчить на машинке брезентовые рукавицы. Коротали по-вдовьи вечера дома, хоть и молодые еще были, но повзрослели на целую войну. Сидели и вышивали, смотрели фотографии, вспоминали. У Липы был парень до войны, но сложил голову под Москвой еще в 41-м, и она стала считать себя его вдовой, навсегда отказавшись от женского счастья. Марину же все выпроваживала на гулянки, хотела, чтобы у нее были хотя бы дети. Она шла, отсиживалась где-нибудь в клубе или у знакомых, а потом рассказывала Липе басни о своих похождениях.
Вернулся лет через семь после войны на шахту и Емельян Львович. Взяли его только мастером. Съездил в Киев, узнал, что стариков его и сына расстреляли немцы, вернулся, начал пить. Под землю его больше не пускали, и он работал на поверхности, по ремонту наземного оборудования. Сильно постарел, кудри поредели, дом его, пока сидел, отобрали и отдали под лесничество. В У. у него никого не было, и он часто наведывался к Марине с Липой, прихватив себе белой, а им наливки или кагору. Сидели втроем, пели песни. Липа незаметно вставала и уходила к соседке. Они молчали и стеснялись друг друга. Был он хороший, Емельян Львович, добрый, но уже совсем — лагерь помог — беззубый, хотя и еще не старый. Выпив, ласкал ее, плакал, называл Полной, и она уступала ему — из жалости, из благодарности за добро. Дважды спас ее, да и нравился он ей, лучше людей не встречала… Говорил, что женился бы на ней, да не хочет портить ей жизнь, пьет. Сломана жизнь… Да и возраст. Был он старше ее только на тринадцать лет, но разница для пережившего войну и тюрьму заметная. Да и камень свое брал — не год пробыл под землей. Шахта, говорил Емельян Львович, она, как медведь лапу, человека сосет.
Так и жили эти годы. Забеременела, выкинула; опять забеременела, родилась дочка Аля. Емельян уехал куда-то, бросил их с дочкой, потом опять вернулся, снова устроился на шахту, выхлопотал для них с Алей хорошую двухкомнатную квартиру в строящемся двухэтажном бараке для итээров. Продолжал ходить к ним с Липой, сам жил в шахтерском общежитии. Работала Марина теперь в ламповой, тоже Емеля устроил, выдавала шахтерам аккумуляторы. Работа легкая, веселая, целый день на виду, и беременной спокойнее: к сорока годам опять с животом. Отвез ее в роддом, неуклюже ухаживал. Очень был рад новому ребенку, обещал бросить пить и сойтись с ней законным браком, как только она выйдет из роддома. Уже было совсем бросил, да в день рождения Лиды (по его желанию имя) не выдержал на радостях, выпил с друзьями. Долго стоял у роддома, показывая что-то знаками, увидел в окно дочурку — и пошел с мужичками на радостях куролесить. В чайной распивали, с пряниками и леденцами.
Было теплое воскресенье, сентябрь. На шахте татар много работало, сабантуй весь август откладывали, все лил дождь, а тут в сентябре — погода, как на заказ. Емельян пошел на праздник, сел на спор на бревно, и его тотчас сшибли под хохот гуляющих травяным мешком. Сколько ни садился — все оказывался на земле. Проходчик Валя Миков старался, сила есть, ума не надо. Емельян разозлился на свою неуклюжесть, и молодые татары натравили его еще лезть на столб, за призом — подвешенными наверху кирзовыми сапогами, шахтерская утеха. Он расхрабрился, снял туфли, пиджак, рубаху, и, как ни оттаскивали его от столба, — все же полез. Татары подзуживали.
Столб был гладкий, высокий, мылом мыленный, скользкий. Сухожарый Емельян Львович, хоть и было ему в ту пору за пятьдесят, поплевал на руки и полез, на зависть молодым, вверх. Наверху кукарекнул, снял с гвоздя сапоги и, вешая их себе на шею, вдруг покачнулся, отпустился и полетел головой вниз.
— Э-эх, сапожки вы мои, сапожки, керзовые, не хромовые… — жалобно улыбнулся он обступившим его людям и испустил дух.
Хоронили они Емельяна Львовича с Липой. Народу собралось немного, но помогли. Бесплатно вырыли могилу, отпустили со склада кумача на гроб. И на поминки собрали. Пятилетнюю Алю Марина Васильевна оставила с соседями, а только что родившуюся Лиду — в роддоме. Поплакали немного с Липой, посидели, помянули покойника. Не выдалась у него жизнь, у Емели, им повезло лучше. Затянули любимую «Степь да степь кругом», еще что-то, но не пелось, сушили горло прежние песни. Так и разошлись, не допев ни одной.
Марина Васильевна с Лидой пошли к себе в новую квартиру, а Липа осталась с Алей в вершининском доме. Решили — пусть пока будет старшая у нее, Липы, а младшая у матери. Так сестры и выросли порознь, хотя виделись часто. Аля обеих зовет матерями, но как-то далека от той и другой. Да и давно уехала. А Лида живет рядом, навещает тетку Липу с дочкой Настей, которую Липа балует и зовет внучкой.
№ 1. Два самых мудрых, самых человечных. Один мудрый объясняет что-то другому (мудрому) — и оба становятся еще мудрее.
Из записей Лиды. Частые сетования мужчин: нет взаимности, нет справедливости, нет воздаяния. Этому взгляду не хватает жертвенности и… женственности. Да, мужчинам не хватает женственности. У жизни между тем свои цели. Через человеческую (и не только) невзаимность приязни осуществляется, быть может, всемирное братство природы, взаимопроникновение ее бесчисленных связей, диффузия гуманности и добра. Ну что, в самом деле, было бы, если бы мы все (и все в природе) были бы взаимно любимы, взаимно счастливы? Абсурд какой-то, распад, гибель. Человечество сразу бы поделилось на мелкие островки счастья — то есть самопоглощенности, отъединения, отчуждения — и тогда конец, вырождение, гибель. Что нас всех тогда ожидало бы? Страшно подумать. А так, когда мы все несчастливы и обречены на вечную невзаимность, человек ведь обязательно будет любить того, кто его не любит, а этот, который не любит любящего его, будет любить другого — и не получать взаимности, а этот последний, не любящий любящего его, будет, в свою очередь, любить другого — опять же безответно… И так до бесконечности, пока не охватится этой любовью-нелюбовью все живое — и поэтому есть жизнь, есть воздаяние, есть справедливость…
№ 1. Необходимость зла в природе еще очевиднее, еще неотвратимее, чем необходимость добра. Зло, достигшее такого размаха в отдельной личности, воспринимается уже как неизбежное творение Бога, игра его тайных намерений. Тяжесть содеянного столь велика, что уже, кажется, все это не может быть делом только человека. В самом деле, сколько раз нужно отнять у такого преступника жизнь — да и только ли жизнь? — сколько раз нужно отнять у него даже надежду, веру в добро, даже иллюзию и страх — чтобы возмездие стало наконец справедливым? Но это невозможно. И тогда самая невозможность справедливого воздаяния указывает нам на трансцендентную природу зла, так что зло отдельной личности начинает восприниматься нами уже как деяние не человека, но Бога.
№ 7–58. Друзья, подруги, знакомые матери Лиды. Вот она стоит в группе своих воспитанников-детдомовцев. Вот с подругой у реки. Вот два друга с гармошкой на лесной поляне, гармошка следует за людьми всюду, почтительно оставлена в кадре, стоит на траве, растянута в беззвучном вечном звуке. Вот парень с велосипедом, с темным чубом из-под кепки, в полосатой футболке, гордый. Велосипед — тоже еще необходимая принадлежность фотосъемки, тоже наравне с человеком участвует в действе. Дом отдыха Руш, группа отдыхающих. Все очень серьезны, снимаются для истории. Праздничная набережная, толпы гуляющих, шарики, мороженое из формочек, косынки. Военные снимки. Послевоенные. Наивная серьезность времени. Сколько их, бывших людей, бывших судеб. Почти никого в живых: кто исчах от голода, кто погиб на фронте, в ссылках, лагерях, в шахтах. Как они все серьезны, значительны, эти люди, как они любили фотографироваться, словно бы стремясь задержаться во времени, словно бы предчувствуя его грядущую жестокость.
Лида вынимает фотографии одну за одной из альбома, приближает близоруко к глазам. Отчего мы так безошибочно, так наверняка распознаем снимки, которые сделаны еще до нас, до нашего пребывания в мире? — как, наверное, распознали бы без труда те, что будут потом, после. Почему мы знаем это? И отчего всегда так запредельно жаль этих людей, которые еще без нас, еще до нас, еще о нас не догадываются, не знают? Мы еще ничем не можем — и уже никогда не сможем — помочь им, мир до нас еще лишен нашего участия и сострадания. Так милосердное сердце понимает это.