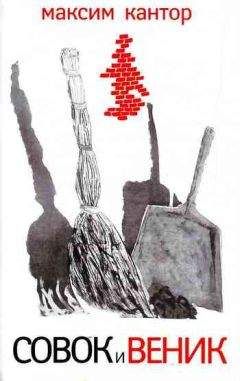Знаю сам, что неправ! Понимаю, что это косность и мракобесие – не любить юных принцесс отечественного капитализма. А вот поди ж ты, лезет из меня звериная советская закваска. Говорю себе: ты неправ, опомнись! Возлюби Пупкину! А не получается! Так вот и копится народный гнев, думаю я. Смотрят люди русские на фото юной Пупкиной, страдают, переживают, читают роман Толстого «Воскресение», а потом в один злосчастный день берутся за вилы. И невдомек варварам, что, потерпи они каких-нибудь полтораста лет, пришли бы новые, просвещенные Пупкины, которые обязательно дали бы каждому недовольному по трехкомнатной квартире. Но нет, не понимает дикарь, ярится на фото в газете!
И главное – почему такие же точно картинки, но с благостными физиономиями английских домовладельцев, не вызывают гнева? Мы с Мэлвином хладнокровно разглядываем интерьеры в усадьбах английских лордов, и желание подпалить недвижимость не возникает. Помнится, мы два месяца подряд читали репортажи о том, как Бэкхэмы (футболист и его жена-певица) обустраивают свой новый особняк, пятый по счету, но никакого классового протеста не обнаружилось. Или вот статейка о продюсере из Ливерпуля, который купил палаццо в Италии, – и опять: ноль эмоций. Посмеялись, и снова принялись за невкусные сосиски. Почему так? Оттого ли, что своему можно простить больше, чем чужому, – или впрямь английские богатеи ведут себя пристойнее?
Лишь однажды Колин возмутился поведением богача английского подданства. Было так: мы просматривали газеты и наткнулись на опус художника Херста, рекламируемый компанией «Саатчи и Саатчи». Речь шла об очередной акуле, распиленной пополам, – кстати, тут же сообщались цифры, почем произведение продано. Обычно сдержанный Колин внезапно сделался злобен, лицо его исказилось.
– Я бы самого этого Чарльза Саатчи распилил пополам, – заявил Колин, – и засунул бы половинки в аквариум.
Он помолчал, разрезал пополам сосиску, поглядел на две розовых половинки и добавил:
– Вот так бы я и его разрезал. И плавали бы в растворе две половинки сэра Чарльза. Неплохо, а? И написал бы на этикетке: «Саатчи и Саатчи».
И засмеялся своей жестокой шутке.
– И в галерее бы показал. Пусть люди смотрят.
– А что? Верно, Саатчи и Саатчи! – Мэл насадил на вилки половинки сосиски и стал вертеть вилками в воздухе. – Саатчи и Саатчи! Ха! Вот потеха! – И Мэл тоже захохотал.
Хорошо, что Чарльз Саатчи не случился в ту пору в харчевне у Дианы в Брикстоне. Ему могло не поздоровиться.
Вообще есть в англичанах этакая спонтанная жестокость. Говорят про их «сдержанность», только не добавляют, что сдержанность не мешала им потрошить Африку и бомбить немецкие города до состояния щебня. В тех же самых газетах, где печатают заметки про русских воротил, вы найдете описание типичного английского преступления. Полагаете, это борьба за наследство, как то описано в романах Агаты Кристи? А вот и нет – все гораздо проще. Вообразите типовой английский коттедж: низкий домик, маленькие окошки, тесная кухонка, плющ вьется по кирпичной стене – от канализационной трубы аккурат до мусорного бака все увито плющом. Словом, рай. Шиповник цветет под окном, жужжит шмель, жена жарит печенку, муж пьет какао и газету читает – и вдруг муж вскакивает, хватает топорик для разделки мяса – и хвать жену в темя! Хрясть! Хрясть! Голова несчастной разваливается пополам, как спелая тыква. А потом и сам убийца падает, корчится: оказывается, жена ему в какао стрихнину насыпала. Почему? Зачем? Следствие заходит в тупик. Нет никаких внятных объяснений содеянному. Просто вот так, ни с того ни сего выплескивается агрессия: жили тридцать лет вместе, а потом друг дружку порешили. И поверьте, это типичный случай: каждую неделю кого-нибудь утюгом тюкнут или ножницами пырнут – то в Саутгемптоне, то в Ньюкасле. Впрочем, в скучной дачной местности до чего только не додумаешься.
Но возможно, дело еще и в национальном характере. С моей точки зрения, нация, произведшая крикунов рок-музыкантов, должна давать выход страстям и на бытовом уровне. Страсти в каждом бурлят – один по сцене скачет с микрофоном, а другой хватается за кухонный топорик.
Мои наблюдения говорят следующее: в русском человеке раздражение копится долго – а в британце ярость вспыхивает сама собой. Русскому надобно осознать правоту Толстого, принять логику Ленина, пережить голод и холод. А британец молчит, какао пьет, ничего, кроме газеты «Sun», никогда не читает, а потом – раз, и голову Карлу Стюарту оттяпает! Может быть, именно это английское свойство спонтанно приходить в бешенство и кромсать все живое окрест и является гарантией хваленой британской свободы? Недаром Сталин поднял тост за долготерпение русского народа. Ох, знал тиран, за что пить!
Иногда ребята в Брикстоне просят рассказать что-нибудь из русской истории. Мы устраиваемся так: Мэл сидит, склонившись над рисунком, – по вечерам, когда работа заканчивается, он рисует котов, Колин наливает стакан вина и садится в кресло, а Меган с чашкой чая бродит по комнате. Мэл сидит к нам спиной, мы видим, как движется его рука, это он рисует шерстинки у кота. Волосок к волоску, каждый волосок внимательно вычерчен. Мэл рисует котов, а я описываю события в России, предшествовавшие Первой мировой, голод, стачки, погромы, Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, сталинский террор, и так далее. Ребятам интересно.
– Stalin was bloody bastard, – сообщает Мэл через плечо, и – чирк-чирк, котику на хвостике волоски рисует.
– Да, – говорю, – bastard.
– Убивал людей, fucking son of bitch! – и котику усик выделывает. По затылку Мэла видно, что ему самому нравится рисунок.
– В России всегда друг друга убивали. Но при Сталине больше, чем обычно.
– Это Сталин устроил fucking revolution?
– Как может один человек устроить революцию? Страна больная, вот и вышла революция.
– И богатые уехали?
– Почти все.
– Без богатых хуже стало?
– Появилась партийная номенклатура.
– Fucking communists! А сегодня кто правит?
– Новые богатые. Ты сам видел в газете.
– Думаешь, новая революция будет? – чирк-чирк по бумаге.
– Вряд ли.
– Bloody hell! У вас интересная история, Макс!
– У англичан что, неинтересная?
И мы говорим о Вильгельме Завоевателе, об Иоанне Безземельном, Уоте Тайлере, Кромвеле, и так далее. Мэл отрицает всякое сходство с российскими драмами.
– Знаешь, в чем разница, Макс? Мы никогда не эмигрировали. Зачем из дома уезжать? А bloody Russians живут как цыгане. Рушен живут везде: в Америке, Париже, Израиле. У нас в Лондоне триста тысяч русских.
– Это верно, – соглашаюсь я.
– Вот и говорю, интересная история. Сами в своей стране жить не можете. Плохо вам у себя дома.
– Почему, – говорю, – некоторые у нас хорошо живут.
– Скажи, Макс, – задает Мэлвин вопрос, – а кому на Руси жить хорошо?
То есть он спросил, конечно, не буквально как поэт Некрасов, сказано было по-английски, но перевод именно такой.
– Как это кому? Богатым. А у вас разве не так?
– Ты не понял, mate! Как ваши богатые называются? Вы их как называете?
И я задумался, не знал, что ответить. Ведь должно же быть название у правящего класса. Сказать «демократы» – выйдет не вполне точно. Они, может, и демократы, но не в этом их основная особенность. «Номенклатура» – тоже неточно. Это все-таки не номенклатура, хотя и похоже.
Не так давно этот же вопрос я обсуждал с другом детства, богачом и воротилой Серегой Востриковым. Мы сидели с ним в Москве, в ресторанчике «Буратино», и я спросил Серегу:
– Ты чем занимаешься?
– Я дилмейкер, – сказал Серега, – дела всякие устраиваю.
И действительно, Серега заседает в трех комиссиях и рулит четырьмя фондами. У него кортеж из двух джипов с охраной, а его особняк я уже как-то описывал. Здание поменьше Большого академического театра, но незначительно.
– Вот ты и определи, кто мы такие! – сказал мне Серега. – Очень это востребованный вопрос. Для социальной политики необходимо обозначить передовой класс. Ну скажи – кто мы?
– Кто это – мы?
– Ну, все мы! – и жест рукой в сторону соседнего столика.
А из-за соседнего столика поднялся грузный мужчина, приблизился.
– Слушай, Серж, – сказал грузный, – закон мы протолкнули, но на меня Миша Казанский наехал.
Мне показалось, что слово «казанский» не фамилия.
– Несерьезно, – сказал Серега, – мне десять лет назад уже грозились, что Миша меня заказал, а видишь, обошлось. Мишаня – адекватный человек.
– Знаю, фуфло гонят. Просто у нас с Мишей дома по Рублевке конкретно рядом. Неудобно получается.
И я представил себе, как идет грузный человек по своему дачному участку, направляется, допустим, в баню. Мирный летний денек, белки скачут по рублевским соснам, а за забором хищный сосед вострит топор. Ну и жизнь у них, подумал я. И кстати, у кого это – у них?
Когда Мэлвин задал некрасовский вопрос, я вернулся к разговору с Серегой Востриковым, и мне захотелось ответить. Это ведь важно – дать явлению имя.