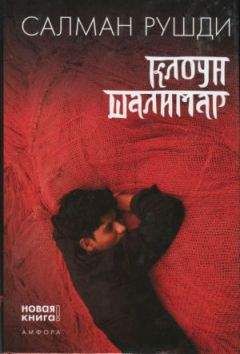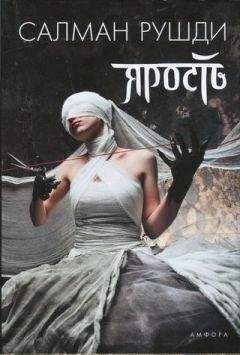Все это напоминало ему ситуацию в фильме «Великолепная семерка», когда Хорст Буххольц узнаёт, что деревенские жители, нанявшие его и его товарищей для защиты деревни, прячут от них своих женщин. Только здешних женщин никто ни от кого не прятал. Они просто глядели сквозь тебя своими синими, как лед, своими золотистыми, своими изумрудно-зелеными глазами инопланетных существ. Они проплывали мимо тебя на лодках-шикарах, скрывая под своими алыми, фиолетовыми и ярко-голубыми платками черное или рыжее пламя волос. Они сидели на корточках на носах своих узких лодчонок, словно чайки, высматривающие крупную рыбу, и глядели на тебя так, будто ты — планктон. Они тебя в упор не видели. Ты для них не существовал. Как они могли думать о том, чтобы целовать, обнимать и ласкать того, кто не существует? С таким же успехом можно было представить, будто ты обитаешь на планете, которой нет, на планете-тени. Ты — существо иного мира! Твое пребывание в этом мире может быть подтверждено, лишь если оно каким-то образом материализовано. В глазах женщин такой материализацией был Эластик-нагар, и поскольку они находили его безобразным (хотя это мнение и было противозаконным), они полагали, что невидимые люди, населяющие его, тоже безобразны.
Он безобразным не был. Он хрипло лаял, как английский бульдог, но сердце имел хиндустанское. Не женат в тридцать один год — но это еще ни о чем плохом не свидетельствовало. Многие мужчины не умели выжидать, но только не он. Он был полон решимости выдержать. Его подчиненные ломались и шли в публичные дома, только он был сделан из более прочного материала, и он берег свое мужское семя, священное семя продолжателя рода. Оно требовало суровой самодисциплины, его следовало держать в себе и не выпускать за пределы тела, которое должно было служить ему укрепленной и защищенной со всех сторон крепостью — как Бунд в Сринагаре. Когда полковник обходил эту стену со стороны реки Джелам, ему казалось, что он обходит дозором свою собственную душу.
Его буквально разрывало на части от желания, от дьявольской потребности выплеснуться, но он крепился. Он задраил люки и никому не выдал свою великую тайну.
Это была его совсем особенная тайна, ее возникновение он связывал со всем нечистым, что накопилось внутри: у него перепутались все органы чувств. Где-то внутри произошел сбой. Ощущения стали предательски ненадежны, словно зыбучие пески. Оно и понятно: когда бросаешь все силы на укрепление одного из флангов, то остальные ослабевают, и прорыв неизбежен. Он бросил всю силу воли на подавление желаний — и вот результат: ему стали изменять ощущения. Он с трудом мог бы подобрать слова, чтобы описать эти сбои, эти помутнения рассудка. Он слышал цвета; он ощущал на вкус чувства. Ему приходилось следить за своей речью, чтобы не спросить, к примеру: «Что это еще за красный шум?» — или не устроить разнос за то, что грузовик нестройно поет (имея в виду, что он плохо замаскирован). Он был в полном смятении. Его ненавидели, это было противозаконно, но никого не останавливало. Никто не вспоминал о мародерах-кабаилисах, зато о солдатах его гарнизона, об их насилиях и жадности говорили все. Говорили, потому что все это происходило у них на глазах. Они видели перед собой оккупантов, которые ели их пищу, уводили их лошадей, отнимали их землю, били их детей, а иногда и убивали взрослых. Ненависть была горькой на вкус, как цианид в миндале. Говорят, если съесть одиннадцать ядовитых зерен миндаля, можно умереть. Он глотал ненависть день за днем и все еще был жив, но с головой происходило что-то нехорошее. Чувства менялись местами, как играющие дети. Их названия утратили всякий смысл. Что такое слух? А вкус? Он уже не мог разобраться в этом. Для него, командира двадцатитысячного гарнизона, цвет золота отдавался в ушах басистым гудением тромбона.
Ему требовалась поэзия. Поэт сумел бы объяснить ему самого себя. Но он — солдат, а солдату не пристало интересоваться всякими там газелями[11]. Его подчиненные, узнай они о том, что ему потребовались стихи, сочли бы его слабаком. Только он не слабак, просто хорошо собой владеет.
А внутреннее напряжение все нарастало. Враг — где он? Подайте его сюда, он, полковник Качхваха, готов его встретить. Ему требовалась война…
И тут он встретил Бунньи. Это было как первая встреча Кришны с Радхой, всего лишь с тою разницей, что он ехал на армейском джипе, не был темно-синего цвета и не ощущал себя богом, а она не обратила на него ни малейшего внимания. В остальном все совпадало: жизнь стала иной, мир осветился, стал нереальным и полным тайны. Бунньи звучала как стихи. Его джип обволокло облаком темно-зеленого шума. Она была с подружками — Химал, Гонвати и Зун, — опять же словно Радха, окруженная девушками-молочницами — гопи. Качхваха, усердный служака, знал о них всё. Зун Мисри, девушка с оливковой кожей, хвасталась тем, что в ней течет кровь египетских цариц, хотя на самом деле была всего лишь дочерью деревенского плотника, Большого Мисри, как его прозвали за огромный рост и могучее телосложение, а Химал и Гонвати — бесслухими дочерьми Шившанкара Шарги, обладателя самого красивого голоса в округе. Вчетвером они репетировали танец для одной из традиционных пьес. Было похоже, что они и действительно представляли пляску гопи-молочниц, так что и это соответствовало представившейся ему мифологической сцене. Качхваха ничего не понимал в танцах, танец он ощущал как благоухание, а Бунньи переливалась изумрудом. Полковник направлялся на собрание совета деревенских старейшин — панчаята, чтобы обсудить деликатные вопросы поставок и подрывных настроений, но глас насущной необходимости заставил его остановить джип и выйти.
Танцовщицы тоже остановились и повернулись к нему. Он не знал, что делать. Он взял под козырек. Ошибочный шаг. Его восприняли плохо. Он сказал, что хочет поговорить с ней один на один. Слова прозвучали будто команда, и ее подруги рассыпались, как разбитое вдребезги стекло. Она осталась. Музыка, грохотанье грома — это она. И его голос, вонючий, как собачье дерьмо. Он еще не успел рта раскрыть, а она уже всё поняла, она увидела его голым, и он невольно прикрыл руками стыдное место.
— Ты афсар Качхваха Карнал, — произнесла она.
Он залился краской.
— Да, биби[12], я офицер.
Он… ждал всю жизнь… он всю жизнь закупоривал себя — спасался от… теперь он ужасно жаждет — надеется… горячо надеется…
Качхваха смолк, и тут она взорвалась:
— Хочешь арестовать? Я что — тоже заговорщица? Может, отхлещешь по пяткам или током будешь пытать? Может, снасильничаешь? Я представляю угрозу для общества? Значит ли это, что ты предлагаешь мне свою защиту?
У ее презрения был запах весеннего ливня. Ее голос звенел серебром.
— Нет, биби, всё совсем не так.
Но она поняла всё так, догадалась, что его прямо распирает от постыдного желания.
— Отвали, — бросила она, и метнулась в лес, и побежала прочь, перепрыгивая через ручьи, все дальше и дальше от того места возле Пачхигама, где стоял Качхваха посреди руин крепости, возведенной им ради самосохранения.
По возвращении в Эластик-нагар он дал волю ярости и принялся строить планы захвата и подавления Пачхигама. Деревня обязательно ответит за оскорбительное поведение Бунньи Каул, посмевшей влепить словесную пощечину старшему офицеру.
В те дни борьба поднимала голову, и ее решено было подавить в зародыше посредством превентивных мер. Кашмир — для кашмирцев?! Это ж надо додуматься до такого маразма! Крошечная долина с населением не более пяти миллионов человек желает сама решать свою судьбу. Ишь чего захотели! Эдак можно черт-те до чего дойти. Если Кашмир для кашмирцев, то почему бы и не Ассам для ассамцев, а Нагаленд — для нагов? Можно еще и дальше пойти: почему бы не требовать независимости для отдельно взятого города, деревни, улицы или дома? Почему не объявить независимой спальню или нужник? Почему бы не очертить возле ног круг на земле и не объявить себя Самостаном? Пачхигам — не единственная мятежная деревня, в этой коварной сепаратистской долине они все такие. Он, полковник Качхваха, до сих пор с ними миндальничал. Ничего, теперь они у него попляшут. Подозреваемые у него все на примете. Да-да, теперь он возьмется за дело всерьез. Тем более, что в Пачхигаме у него есть свой информатор, опытный и вполне надежный шпион, более того: он почти каждый день завтракает не где-нибудь, а прямо в доме у Бунньи Каул.
В один прекрасный день в дом Каулов заявился пандит Гопинатх Раздан, невероятно тощий господин с глубокой морщиной меж бровей, с красными, выдающими пристрастие к бетелю деснами и вечно недовольным видом. В руке он держал атташе-кейс, набитый учебниками санскрита, и письмо из Министерства образования. Одет он был по-европейски, в дешевенький ворсистый пиджак с поднятым воротом, ибо дул пронизывающий ветер, и в серые шерстяные брюки с кофейным пятном на правой штанине чуть повыше колена. Он был довольно молод, примерно одного возраста с полковником Качхвахой, но приложил немало усилий, чтобы выглядеть посолиднее. Сощурив глаза и выпятив губы, он опирался на сложенный зонт, у которого одна спица явно была сломана. Неодобрительное выражение лица усугублялось тем, что он сильно замерз. Бунньи он не понравился с первого взгляда, и, прежде чем он успел открыть рот, она выпалила: