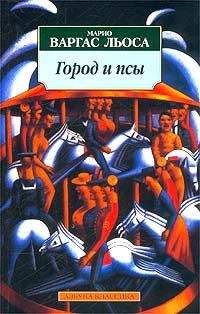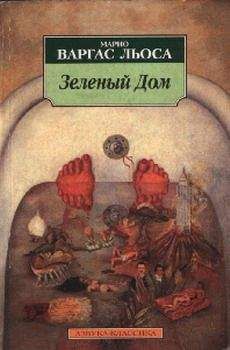Он забыл те одинаковые мелочи, из которых складывалась жизнь после того, как он открыл, что и маме верить нельзя; он не забыл тоски, горечи, злобы, страха, воцарившихся в сердце и терзавших его по ночам. Труднее всего было притворяться. Раньше он не вставал, пока отец не уйдет. Но вот однажды кто-то сдернул с него простыню, когда он еще спал; ему стало холодно, и светлый утренний свет ударил в глаза. Сердце остановилось: отец стоял над ним, и глаза у него горели, как тогда.
– Сколько тебе лет? – услышал он. И ответил:
– Десять.
– Ты мужчина или баба?
– Мужчина, – пробормотал он.
– А ну вставай! – прогремел голос. – Только бабы целый день валяются. Им делать нечего, на то они и бабы. Тебя воспитали, как девчонку. Ну ничего, я из тебя сделаю мужчину!
Он уже вскочил, одевался и второпях все делал невпопад – терял башмак, рубаху надевал навыворот, криво застегивал, не мог найти ремень, не мог завязать шнурки дрожащими руками.
– Каждый день, когда я спущусь к завтраку, ты будешь меня ждать. Умытый и причесанный. Ясно?
Он завтракал с отцом и подлаживался к нему. Если отец улыбался, не хмурился, смотрел спокойно, он задавал ему льстивые вопросы, внимательно слушал, кивал, широко открывал глаза и предлагал помыть машину. А если отец был хмур и не здоровался с ним, он молчал и потупясь слушал его угрозы, всем видом выражая раскаяние. К обеду напряжение спадало, мама была с ними и отвлекала внимание отца. Родители говорили и забывали о нем. Вечером пытка прекращалась. Отец возвращался поздно. Он ужинал раньше, один. С семи часов приставал к маме, ныл, жаловался на усталость, на головную боль, просился спать. Ужинал наскоро и бежал к себе. Иногда, раздеваясь, слышал скрип тормозов. Тогда он гасил свет и прятался в постель. А через час на цыпочках вставал, раздевался и надевал пижаму.
Иногда он гулял по утрам. В десять часов на улице Салаверри было пусто, разве что прогремит полупустой трамвай. Он доходил до Бразильской, стоял на углу. Широкую мостовую не переходил никогда – мама не разрешала. Глядя на рельсы, убегавшие вдаль, к центру, он представлял себе площадь Бологнеси, в которую упиралась улица, – он бывал там с родителями и видел, как много там машин и трамваев, какая толчея на переходах, как отражаются в зеркальных капотах сверкающие вывески и непонятные, ослепительно яркие буквы реклам. Лима пугала его, она была слишком большая, заблудишься – не выберешься, на улицах все чужие. В Чиклайо он гулял один, люди гладили его по головке, окликали по имени,-он всем улыбался – он видел их часто и дома, и на площади, и в церкви, и на пляже.
Потом он шел по Бразильской, до конца, и садился на скамейку в полукруглом скверике, где район Магдалена обрывается в серое море. В Чиклайо садов мало, он знал их все на память – они тоже старые, но там нет ржавчины на скамейках, нет мха, нет этой тоски, которую нагоняют одиночество, и серый воздух, и грустный шум воды. Он сидел спиной к морю, смотрел на Бразильскую, уходившую на север, туда, откуда он приехал в Лиму, и ему хотелось заплакать, закричать. Он вспоминал, как тетя Адела возвращается из лавки, и подходит к нему, улыбаясь, и говорит: «А ну, угадай, что я тебе принесла», и вынимает из сумки кулечек конфет или шоколадку, и он вырывает гостинец у нее из рук. Он вспоминал, как светло и солнечно было весь год на улице, как тепло, как уютно, как весело по праздникам; вспоминал прогулки на пляж, и мягкий желтый песок, и чистое-чистое небо. Потом поднимал глаза – все серое, небо обложено, ни одного просвета. Он медленно шел домой, как старик, волоча ноги. «Вырасту, – думал он, – вернусь в Чиклайо. И никогда не приеду в Лиму».
Лейтенант Гамбоа открыл глаза. Неверный свет фонарей, освещавших плац, сочился в его окно; небо было черное. Через несколько секунд зазвенел будильник. Лейтенант вскочил, ощупью нашел полотенце, мыло, зубную щетку и электрическую бритву. В коридоре и в ванной было темно. В соседних комнатах стояла тишина – как всегда, он встал первым. Когда через пятнадцать минут он возвращался к себе, умытый и выбритый, зазвенели другие будильники. Начинало светать: вдалеке, за желтоватым сияньем фонарей, занимался голубой слабый свет. Лейтенант неторопливо оделся. Потом вышел. На этот раз он пошел к проходной не через казармы, а двором, по воздуху. Было еще прохладно, а он не надел кителя. Часовые приветствовали его, он отвечал. Дежурный офицер, лейтенант Педро Питалуга, прикорнул на стуле, подперев голову руками.
– Смир-рно! – крикнул Гамбоа.
Офицер вскочил раньше, чем открыл глаза. Гамбоа засмеялся.
– А, чтоб тебя! – сказал Питалуга и сел. Он поскреб в затылке. – Я уж думал, это Пиранья. Совсем замучился. Который час?
– Скоро пять. У тебя есть сорок минут. Маловато. Ты зря пытаешься заснуть. Так хуже.
– Знаю, – сказал Питалуга и зевнул. – Не по уставу.
– Да, – улыбнулся Гамбоа. – Только я не к тому. Когда сидя поспишь, потом все тело ломит. Самое лучшее – что-нибудь делать. И не заметишь, как время пройдет.
– А что делать? С солдатами разговаривать? «Так точно, сеньор лейтенант, никак нет, сеньор лейтенант». С ними не соскучишься. Им только слово скажи – сразу попросят увольнительную.
– Я на дежурстве занимаюсь, – сказал Гамбоа. – Ночью заниматься лучше всего. Днем я не могу.
– Ясно, – сказал Питалуга. – Ты у нас образцовый. Да, кстати, чего ты вскочил в такую рань?
– Забыл? Сегодня суббота…
– А, ученья! – вспомнил Питалуга и протянул сигарету. Гамбоа покачал головой. – Хорошо, хоть я на дежурстве, идти не надо.
Гамбоа вспомнил военную школу. Они с Питалугой были в одном взводе. Питалуга учился средне, но стрелял превосходно. Однажды, на годовых маневрах, он прыгнул верхом на коне в реку. Вода доходила ему до плеч, конь ржал от страха, ребята кричали: «Вернись!», но Питалуга одолел теченье и – весь мокрый, счастливый – выбрался на тот берег. Капитан, их начальник курса, похвалил его перед строем, сказал: «Молодец!» А теперь Питалуга ноет, и служба ему в тягость, и ученья. Только об увольнительной и думает, как солдаты или кадеты. Но тем простительно, они в армии временно; одних пригнали силой, оторвав от земли, других родители сюда спихнули. Питалуга выбрал сам. И не он один такой: Уарина каждые две недели врет, что заболела жена; Мартинес пьет на дежурстве – все знают, что у него в термосе водка, а не кофе. Почему же они не уходят в отставку? Питалуга разжирел, не учится, приходит из города пьяный. «Долго просидит в лейтенантах, – подумал Гамбоа. И тут же поправился: – Если у него нет руки». Сам он любил в армейской жизни как раз то, что другие ненавидели: дисциплину, иерархию, ученья.
– Я позвоню.
– Чего так рано?
– Надо, – сказал Гамбоа. – Жена уже встала. Она уезжает в шесть.
Питалуга равнодушно пожал плечами и втянул голову в ладони, как черепаха втягивает под щит. Гамбоа говорил в трубку тихо и нежно, спрашивал о чем-то, напоминал о таблетках от тошноты, советовал одеться потеплее, просил, чтоб ему прислали откуда-то телеграмму, много раз повторял: «Ты хорошо себя чувствуешь?» – и наконец отрывисто простился. Питалуга во сне отвел от лица руки, голова его повисла, как колокол. Он поморгал, открыл глаза. Вяло улыбнулся.
– Ты прямо как молодожен, – сказал он. – С женой говоришь, как будто вчера поженились.
– Я женат три месяца, – сказал Гамбоа.
– А я год. И черта с два я ей позвоню! Ведьма, вся в мамашу. Вот бы она орала, если б я ее разбудил!
Гамбоа улыбнулся.
– Моя жена очень молодая, – сказал он. – Ей восемнадцать. Мы ждем ребенка.
– Сочувствую, – сказал Питалуга. – Не знал. Надо предохраняться.
– Я хочу ребенка.
– Ясно, – сказал Питалуга. – Как же, как же! Чтоб сделать его военным.
Гамбоа, кажется, удивился.
– Не знаю, хочу ли я, чтоб он был военный, – медленно сказал он. Потом оглядел Питалугу с ног до головы. – Во всяком случае, не такой, как ты.
Питалуга выпрямился.
– Это что, шутка? – мрачно спросил он.
– Ладно, – сказал Гамбоа. – Брось.
Он повернулся и вышел. Часовые опять отдали честь. У одного из них съехала на ухо фуражка; Гамбоа хотел было сделать замечание, но сдержался, чтобы не связываться с Питалугой. А Питалуга снова охватил руками растрепанную голову, однако спать не стал. Он выругался, крикнул солдата и приказал принести кофе.
Когда Гамбоа пришел во двор пятого курса, горнист уже протрубил побудку перед другими корпусами и собирался будить старших. Завидев лейтенанта, он опустил горн, поднесенный было к губам, вытянулся и отдал честь. И солдаты и кадеты знали, что из всех офицеров один Гамбоа отвечает по-уставному на их приветствие; другие кивали на ходу, и то не всегда. Гамбоа скрестил на груди руки и подождал, пока горнист кончит. Потом взглянул на часы. В дверях маячили дежурные. Он обошел их одного за другим, а они поочередно подтягивались, надевали береты, поправляли брюки и галстуки раньше, чем поднести руку к виску. Потом, сделав поворот, они исчезали в недрах казармы, где уже начался обычный утренний гул. Через минуту явился сержант Песоа. Он бежал.