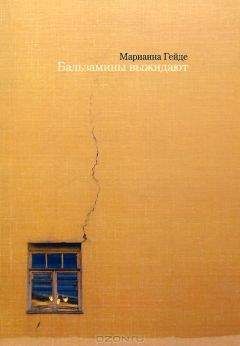К.-П. (гордо): Я не собака.
К.-М.: А я вот смотрю, что всё-таки собака. Хозяина ему, видишь ли. А что будет, когда он сдохнет, твой хозяин? А? Он уже старый, еле держится. На ладан дышит. Вот-вот в ящик сыграет. Что тогда будет, а?
К.-П. (задумчиво): Тогда, наверное, мы будем последними вещами, которые он увидит в своей жизни.
Кошка-Мать вздыхает и, более не удостаивая Котён- ка-Подростка внимания, перемещается на постель, сворачивается клубочком и застывает в этой позе, слегка посапывая. Затемнение. В следующем действии комната еле освещена, в ней царит лёгкий беспорядок в виде перевёрнутого стула и осколков чашки, стоит сильный смрад, мёртвый хозяин лежит на полу, раскинув руки, это грузный старик со вздувшимся побуревшим лицом. Кошка-Мать и Котёнок-Подросток, успевший превратиться во взрослого кота, сидят подле тела и обгрызают его щёки и подбородок со сладострастным урчанием. Конец.
— А вы кто? — спросила девушка в прозрачных туфлях. «Да я вообще никто», — хотел ответить, но не ответил молодой человек с лишаями. Вместо этого он как можно более нечленораздельно пробормотал своё имя, как будто бы его тоже наполовину скосил лишай. — А я копия Лизы Аронофски, — дружелюбно произнесла девушка в прозрачных туфлях. — Что значит «копия»? — оторопел молодой человек. — Вы что, из клуба двойников? — Нет, — отвечала девушка в прозрачных туфлях, — вы меня не так поняли. Я копия. Лиза Аронофски погибла в автокатастрофе четыре года назад, и её безутешные родственники обратились в исследовательский центр, и там из остатков мизинца Лизы Аронофски взяли генетический материал и вырастили из него меня. Я выгляжу, как Лиза Аронофски, разговариваю, как Лиза Аронофски, делаю всё, как Лиза Аронофски. — Так, значит, вы и есть Лиза Аронофски, — предположил молодой человек с лишаями. — Нет, — ответила девушка в прозрачных туфлях, — я не могу быть Лизой Аронофски, потому что она умерла, когда меня ещё и на свете-то не было. Я всего лишь копия. Моё присутствие напоминает родственникам и знакомым Лизы Аронофски о том, какая она была. А у меня и имени-то своего нет. «И у меня нет, — хотел сказать молодой человек с лишаями, — моё присутствие никому ни о чём не напоминает», но вместо этого предложил: — Пошлите их к чёрту. Зачем вам это нужно? Живите сами по себе. — Не могу, — грустно сказала девушка в прозрачных туфлях. — Я экспериментальное существо и являюсь собственностью института. Кроме того, я не хочу их огорчать. Они замечательные. А Лиза Аронофски была тоже замечательным человеком. Я рада, что являюсь именно её копией. Некоторым повезло меньше. Они оказываются копиями разных неприятных людей: государственных преступников, сумасшедших учёных и музыкантов. Они очень страдают. Но поделать ничего не могут: с них теперь такой же спрос, как с оригиналов, а почёта никакого. Словом, это не так уж плохо — быть копией хорошего человека, его все любят, тебе тоже что-то достаётся.
В этот момент объявили, что посадка на рейс, задержанный в связи с непогодой на два часа, начинается, и девушка в прозрачных туфлях, извинившись, упорхнула. Молодой человек с лишаями в эту ночь никуда не полетел.
Аори — это еда. Нет, аори — это род занятий. Каждый год в день взятия Бастилии жители этого острова сжигают все волосы на своём теле, не исключая даже ресницы.
Можно поступить следующим образом: спать не по восемь (или столько, сколько вам требуется) часов раз в сутки, а, допустим, два раза по четыре. Это самый простой вариант. Важно, чтобы это вошло в привычку.
Или у неё были очень крупные черты лица и тела, или, что вероятней, ему было мало лет, но если вдуматься, то их было две, стало быть, всё-таки у неё были, по крайней мере, достаточно крупные черты. Она говорила. Другая говорила тоже, но это не так сильно бросалось в глаза. Сперва ему казалось, что вежливо будет отводить глаза, или, вернее, в нас иногда просыпается неуместная зависть к чужой болезни, каждому человеку желательно иметь хотя бы одну хроническую болезнь, это как паспорт. Её звали — нет, не скажем, как её звали. Стоит нам назвать её по имени — и она тут же наплетёт нам такого — причём, даже не важно, каким именем мы её назовём, она про всякое имя наплетёт. Но если мы уже научились спать по четыре часа два раза в сутки, то нам всё равно: мы её вообще никак не будем называть.
Но как, в таком случае, отличить её от той, второй? Можно, конечно, извернуться и ту, вторую, называть не «она», а «он». Это не так уж существенно, хотя в глаза бросается. Но мы уже назвали «он» другое действующее лицо, и тогда опять возникнет путаница. Может, тогда того, первого «он» переименовать, например, в «я»? Но это закроет нам всегда необходимый запасной выход, ведь всегда в повествовании может случиться какая-то такая несуразность, которую без «я» будет довольно трудно развернуть.
Вот они передвигаются, великолепные, как статуи. Кто хоть раз видел, как движутся статуи, знает: их ноги всегда остаются неподвижными. Вот проходят из буфета в фойе: одна в юбке с хвостами и кистями, другая в замшевой кепке. Наверное, на них ещё что-то было надето, не шли же они из буфета в фойе совсем без ничего, кроме юбки и кепки. С другой стороны, я не очень уверен, что они шли именно в этом направлении, то есть не из фойе в буфет. Им навстречу шёл третий, о котором трудно решить, он это или она, в глаза не бросалось. Одна нога у третьего не сгибалась, потому что в левой штанине у него находилась табличка с надписью «3-й ярус». На голове помещалась фетровая шляпа неопределённого рода занятий.
Вообразим себе помещение: длинное, поперёк себя уже раза в три, оно отгорожено от остального пространства тощей фанерной перегородкой, отчего это самое остальное пространство стало непривычно квадратным. Как-то неуместно квадратным, как будто вечно
перед кем-то извинялось за оттяпанный закуток. Вдоль, поперёк и по диагонали закутка натянуты нити, на одной из них подвешен грандиозный жестяной «кирпич». Это место для личного собрания: вся стена усеяна табличками, большими и маленькими, с названиями улиц, номерами домов, особый интерес вызывала фанерная вывеска в форме стрелы с надписью «БЛИННАЯ».
Первый год он приходит с большой папкой, вручную оклеенной моющимися финскими обоями при помощи мутно-серого скотча. Поверхность папки пупырчата, на красно-коричневом фоне выпуклые желтоватые цветы, смахивающие на капусту. К концу года папка исчезает. Тем, кто спрашивает о её судьбе, он отвечает: «надоело таскать». По сути, это правда.
Вход в помещение не воспрещён, но и не приветствуется. В него словно бы врезан замок при отсутствующей двери. Квадратность остаточного пространства постоянно отсылает к дверному проёму, заставляет оборачиваться. Иногда из-за перегородки слышится гудение голосов, звуки передвигаемых предметов.
Детская игра: дом в доме, комната в комнате, соразмерное внутри несоразмерного. Что-то заставляет детей снова и снова строить себе жилище внутри жилища, вызывая невидимый дождь и ветер под потолком. В десять лет он воображает себе собственное тело самодвижу- щимся автономным домом, помещая где-то под сводами черепных костей мерно раскачивающийся фонарик: там, под фонариком, склонился над листом бумаги
неведомый собеседник, в случае тоски или сомнения в чём-либо можно с ним заговорить. Ответы его лаконичны и всегда неожиданны. Листок за листком собеседник покрывает быстрыми схематичными рисунками — по крайней мере, так можно судить по его движениям, потому что результат никогда не показывается. Это раскадровка будущего кинофильма, который он, если повезёт, увидит ночью.
Обе фигуры представляются ему грандиозными: тяжёлые тазобедренные кости, огромные чаши, подбитые взрослой плотью, переполненные взрослыми недугами, кажется, что они всегда по пояс в воде, и этот балласт позволяет им сохранять устойчивость и маневренность: их надводные движения легки и насмешливы. Сперва он их путает или, скорее, воспринимает как две части одного подвижного механизма: даже их фамилии различаются только на одну букву. Он цепляется за это различие, как за прореху в трикотажной вязи, в надежде, что оно поползёт дальше и позволит, в конце концов, отличить одну от другой и тем самым обезопасить себя: по отдельности они перестанут внушать ему какой-то муторный древний ужас.
Если попытаться в двух словах рассказать историю человеческого растения, то это история перегонки пространства в длительность. Где-то до шести лет он мыслит при помощи телесных движений, одно из которых — речь, напряжение связок. То есть до того момента, когда он осознаёт существование прямой перспективы. Ему кажется, что, удаляясь, предметы стремительно
уменьшаются, и можно, протянув руку, схватить крохотный автомобильчик двумя пальцами. Иногда это удаётся. Где-то до шести лет он прозрачен, сквозь него можно ходить. Один раз он играет в своей комнате: резиновые звери, машинки, несколько больших пластмассовых кукол, принадлежащих старшей сестре. Берёт их в руки, разглядывает: ему нравятся глаза, выпуклые, с полупрозрачными радужками и тёмными зрачками. Если положить куклу навзничь, густо нарезанные пластмассовые ресницы опускаются. Такими глазами она может видеть. Но уши и губы приносят разочарование: крошечная раковина просто отпечатана в пластмассе, между пухлыми раскрашенными губами нет никакого зазора. Зато зазоры обнаруживаются в самых неподходящих местах, там, где прикрепляются руки и ноги, если стянуть с кукол плюшевые одёжки. Он берёт со спинки стула тонкий ремешок из поддельной лакированной кожи и хлещет кукол по гладким пластмассовым спинам: может быть, у них прорежется голос. Куклы молчат. Он не уверен в том, что они вообще что-нибудь чувствуют: на спинах не видно никаких следов. Тогда он идёт к подзеркальной тумбочке, где мать держит свои краски для лица, сгребает в горсть синие глазные тени, румяна, помаду. После каждого удара он рисует на теле куклы синяк или красную полосу: теперь он уверен, они почувствовали. Куклы молчат. Он переворачивает их, заглядывает в пластмассовые глаза: невозмутимы. Тогда он достаёт из ящика стола моток с нитками и вешает кукол на дверных ручках. Они покачиваются и продолжают смотреть. Приходит отец, видит повешенных кукол, начинает кричать. Грозится избить его, если ещё когда-нибудь увидит что-то подобное.