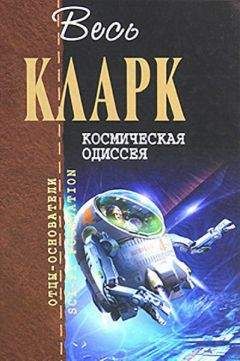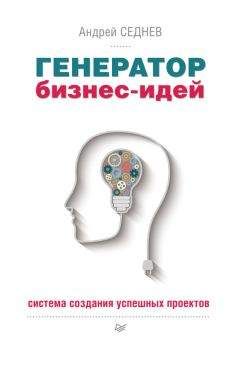22
Однако первая отметина на этой топологической линии времени появилась между моими тремя и пятью годами. Я увидел, как мама выбирает для моей сестры футболку на деревянной складной штуковине из тонких шпонок, на которой можно сушить нерасправленную одежду. Футболка сушилась, вывернутая наизнанку; мама перевернула ее подолом вверх, сунула в нее руку, словно выуживая что-то а глубокой сумке, и взялась за рукав, потом другой рукой схватилась изнутри за второй рукав. Затем подняла локти, и майка начала вращаться вокруг двух осей-рукавов; хлопок ткани – и футболка повисла на маминых пальцах уже не вверх подолом и не наизнанку. Я почувствовал, как мой мозг производит аналогичную инверсию, пытаясь осмыслить кажущуюся невозможность и удивительную разумность того, что сейчас проделала мама. Я ощутил укол упущенной возможности, поскольку не изобрел этот фокус сам – до тех пор, выворачивая футболки, я действовал исключительно методом проб и ошибок: протаскивал рукав через его отверстие и не добивался ровным счетом ничего, нерешительно отворачивал подол сзади, заталкивал горловину внутрь и ждал чуда, – только через несколько минут футболку удавалось вывернуть, причем я никак не мог вспомнить, как это сделал. Понаблюдав за мамой, я упражнялся в тех же движениях, пока не понял, в чем их суть, повторяя «внутрь... наружу... внутрь... наружу», словно сценический речитатив. Проследив за няней, я понял, что и другие люди знают этот фокус, и, по словам няни, моя мама ее этому не учила – няня знала его просто потому, что так выворачивало одежду все население города Рочестера. Вскоре я разработал особый метод систематизации человеческой ловкости, предназначенный специально для подобных фокусов; они были более ценными, нежели умение свистеть, щелкать пальцами, стоять на голове, манипулировать гульфиком трусов, не рискуя задушить свой миниатюрный член, разбивать яйцо одной рукой или играть мелодию из «бэтмена» на пианино, поскольку в основе той разновидности ловкости лежала идея понимания потребности в наборе на первый взгляд непостижимых приготовлений – чтобы потом единственным преображающим движением, подобно павлину, распускающему хвост на канале «Эн-би-си», достичь своей цели. Задним числом я отнес к этой категории усовершенствованный процесс завязывания шнурков, а позднее включил в нее (1) придерживание подушки подбородком над чистой наволочкой – вместо попыток затолкать угол подушки в отползающую наволочку, разложенную на горизонтальной поверхности; (2) раскладывание пальто на полу, чтобы потом вставить обе руки в рукава и надеть его через голову; (3) завязывание простого узла (базового ботиночного) на бечевке, для чего надо скрестить руки на манер Мистера Чистюли, взяться за концы бечевки, а потом разомкнуть руки; (4) скатывание носка клубком, прежде чем надеть его – хотя, как я уже говорил, в конце концов я отказался от этой методики.
К этому выводу я пришел, когда быстро вел машину в темноте по шоссе, где всего за несколько дней до того мусоровоз напомнил мне о железнодорожном костыле и фокусе с белым фоном. Я размышлял о том, что лишь переселившись в пригород, заметил, как окурки, щелчком выброшенные в щели приоткрытых окон невидимыми жителями пригородов, едущими впереди меня, падают на холодное незримое шоссе и рассыпаются крошечным фейерверком табачных искр, и это зрелище производит на меня такое же впечатление, как последние кадры «Рискованного бизнеса»: полуночный поезд чикагской подземки высекает во мраке сноп искр, затормозив под надменное «кш-ш!» литавр в убаюкивающих электронных ритмах саундтрека, – только сигаретные искры были бледным подобием этой глубокой сцены, еще теплые от чужих губ и легких останки сигарет возникали прямо перед фарами и тускнели в их свете, когда машина оставляла позади подпрыгивающий и вращающийся волчком окурок, что двигался со скоростью 40 миль в час, в то время как машина – со скоростью 45 миль. Это напомнило мне, как в детстве при поездках на машине я приоткрывал окно, выбрасывал огрызок яблока или груши, впуская в салон свист воздуха и шум, и смотрел, как мой огрызок удаляется в перспективе, еще продолжая подпрыгивать и вертеться, внезапно превратившись из предмета, который я держал в руке, в ничейный предмет, в мусор, валяющийся посреди ничем не примечательного, соединяющего два населенных пункта шоссе. И я ломал голову: неужели люди, швыряющие в темноту окурки, делают это просто чтобы не пачкать пепельницу, или глотнуть свежего воздуха, ворвавшегося в приоткрытое на четверть окно, или они знают, какими возвышенными мыслями обязаны им некурящие, и заботятся о нас – может, курильщики тоже обращают внимание на шлейф фейерверков за машинами других курильщиков? А если они с наркоманской сентиментальностью и эгоизмом ассоциируют эту скоростную кремацию и рассеивание праха с более длинной траекторией собственной жизни – «ввергнут во мрак в сиянии славы», и т.д.? Эти мысли, как новые, так и повторы, я перебирал в голове, когда и пришел к этому выводу.
Невозможно угадать, замечают люди подобные уловки или нет. Через несколько недель после несостоявшейся встречи я налетел на Боба Лири у ксерокса – копировальную машину из его отдела отправили в ремонт – и, чтобы искупить собственную трусость в вестибюле проявил себя говорливым, дружелюбным и доброжелательным, представился сам и даже стал инициатором минутной беседы о снижении прибылей в нынешней сфере производства копировальных машин и о воздушном подсосе как элементе механизма подачи бумаги, предсказать изобретение которого не смог бы никто. Больше ничего не потребовалось: с тех пор мы чувствовали себя друг с другом абсолютно непринужденно, встречаясь в холле или в туалете, кивали и улыбались, даже какое-то время работали вместе над тридцатистраничным междепартаментским запросом для автопарка. Мое унизительное бегство от встречи с Бобом в тот день на эскалаторе ни разу за годы не омрачило наши приятельские отношения.
Я мог с уверенностью сказать, чем она занята, и это меня радовало. Незнакомка перебирала копии своего резюме, чтобы по первому требованию не вытащить ненароком одно из худших, с опечаткой в слове «Нью-Гепмшир», хотя и такие она не выбрасывала, приберегала для собеседований в следующем здании – на случай, если в свободное время не успеет забежать в центр копирования документов, тем более что вторая предложенная работа ей все равно не нравилась. Мой кивок, обращенный к женщине, можно было бы счесть покровительственным, но я вкладывал в него дружеский смысл, поскольку сам когда-то парился в новеньком костюме в вестибюлях, держа наготове пачку резюме, пестревших опечатками.
Эскалаторы и вправду были безопасны – как я теперь понимаю, благодаря блистательному решению дополнить поверхность ступенек рубчиками, идеально входящими между зубцами металлической гребенки вверху и внизу эскалатора, поэтому случайные предметы вроде монеток или наконечников шнурков просто не могли попасть в щель между движущимися ступеньками и неподвижным полом. В тот день о рубчиках и желобках эскалатора я не задумывался, и, в сущности, тогда их назначение было для меня неясным – я полагал, что они придуманы для сцепления, или в чисто декоративных целях, или сделаны таковыми, чтобы напомнить нам, как красивы все рубчатые поверхности: брюхо кита полосатика, наверняка обладающее некими гидродинамическими или термическими свойствами; борозды, оставленные граблями на рыхлой почве или бороной в поле; единственная бороздка на льду от лезвия конька; рубчики на носках, позволяющие им растягиваться, и на вельвете, по которым можно водить шариковой ручкой; дорожки на грампластинках. В тот период, когда я катался на эскалаторах, не завязывая шнурки, зимой я бегал на коньках (между прочим, ступенька эскалатора похожа на ряд перевернутых коньков), описывал круги по замерзшему пруду, пристроившись к пожилым итальянцам-конькобежцам со сморщенными, как изюм, лицами, в свитерах с капюшонами; чехлы для коньков они носили за спиной и бегали длинным, плавным, размеренным ходом. Летом же я слушал пластинки: дважды в неделю поднимался на очень коротком эскалаторе на второй этаж торгового центра «Мидтаун-Плаза», и когда наверху ступеньки начинали втягивать подбородки, на уровне моих глаз появлялся обширный пол, ведущий мимо похожих на коробки металлодетекторов в устланные ковром владения «Мидтаун Рекордз». Там я рылся в альбомах шагающим движением пальцев; если попадалось несколько экземпляров одного альбома, получался примитивный мультик в стиле синематографа, в котором надутый исполнитель неподвижно сидел за пианино под желтой эмблемой «Дойче Граммофон»; часто из-за пустоты между целлофановыми обертками соседних альбомов последующий приходилось укладывать, опускать на несколько градусов, пока он не кренился сам.