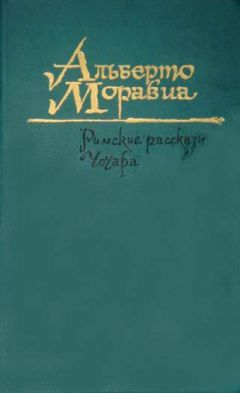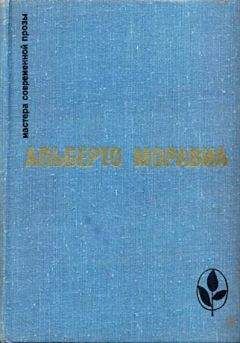— Можно?
Я поспешил выйти из задней комнаты.
Я не ошибся, это была Сантина, дочь привратника из дома напротив. Брюнеточка, маленькая, но ладно сложенная, с круглым личиком и озорными черными глазами. Она часто заглядывала к нам в парикмахерскую под каким-нибудь предлогом, и я по наивности думал, что это она из-за меня ходит. Сейчас ее посещение доставило мне большое удовольствие; я предложил ей присесть, и она сразу же уселась в кресло; она была такая маленькая, что ноги у нее не доставали до пола. Мы стали болтать, и для начала я заметил, что в такой день, как сегодня, на пляже, верно, чудесно. Она вздохнула и ответила, что охотно пошла бы купаться, но, к сожалению, должна идти вешать белье на террасе. Я предложил:
— Хотите, я пойду с вами, помогу вам? А она:
— На террасу?.. Да что вы, разве можно!.. Мать увидит — заругает.
Она все оглядывалась вокруг, ища, о чем бы еще поговорить, и под конец спросила:
— У вас не много клиентов, да?
— Не много? Ни одного!..
Она сказала:
— Вам бы надо открыть дамскую парикмахерскую… Мы бы с подружками ходили к вам делать перманент.
Чтобы доставить ей удовольствие, я сказал:
— Перманент я вам, конечно, не могу сделать… но освежить лицо и волосы — это можно.
Она кокетливо вздернула голову:
— Ну да? А какие у вас духи? — Хорошие.
Я взял флакон с пульверизатором и начал в шутку опрыскивать ее куда попало, а она отбивалась и кричала, что я выжгу ей глаза. В эту минуту на пороге показался Раймондо. Он проговорил строго:
— Развлекаетесь? Прекрасно, — и, не взглянув на нас, вошел в комнату.
Сангина встала со стула, пробормотав какое-то извинение; я поставил флакон на место. Раймондо сказал:
— Ты ведь знаешь, что я не люблю, когда к нам в парикмахерскую заходят женщины… К тому же пульверизатор у нас только для клиентов.
Сантина сделала недовольную гримаску:
— Синьор Раймондо, я не знала, что вы такой злой, — и ушла, не очень, впрочем, торопясь.
Я заметил, как Раймондо посмотрел ей вслед долгим, таким глубоким взглядом, и это пришлось мне очень не по нутру, так как я понял, что Сантина нравится ему, и вдруг, по тому, как она ответила на этот взгляд, мне стало ясно, что и он ей тоже нравится. Я сказал сердито:
— На себя, небось, фиалку льешь, а для девушки несколько капелек одеколона пожалел. Она хоть развлекла меня немножко, пока я тут подыхал со скуки. К себе ты, видно, подходишь с одной меркой, а к людям с другой.
Раймондо ничего не ответил и ушел в заднюю комнату снять пиджак. Так началась вторая половина дня.
Прошло часа два в полной тишине. Солнце сильно припекало. Раймондо вначале соснул часок, откинув назад голову и открыв рот, и при этом храпел со страшной силой, даже весь побагровел. Потом это свинское хрюканье внезапно смолкло, Раймондо проснулся и битых полчаса развлекался тем, что подстригал себе волосы в носу и в ушах; в конце концов, не зная, что бы еще такое придумать, он предложил побрить меня. Когда он брил меня, я огорчался еще больше, чем когда я брил его. В самом деле, если я, мастер, побрею его — это еще куда ни шло; но чтобы он, хозяин парикмахерской, брил меня — это уж, простите, означало, что мы с ним просто два неудачника и ни одна собака в нас не нуждается. Однако, так как я тоже не знал, куда деваться от скуки, я согласился. Он уже побрил мне одну щеку и принялся было за другую, когда с улицы, представьте, снова послышался голос Сантины:
— Можно?
Мы обернулись — я с одной намыленной щекой, Раймондо с поднятой в воздух бритвой; Сантина, с этакой кокетливой улыбочкой поставив одну ножку на порог и подпирая бедром большую корзину, полную мокрого белья, смотрела на нас. Она сказала:
— Простите, я так подумала, что у вас, верно, в эту пору клиентов нет, так, может, думаю, синьор Раймондо согласится помочь мне отнести эту корзину белья на террасу… Ведь сеньор Раймондо такой сильный… Простите, если побеспокоила.
И что ж вы думаете делает Раймондо? Кладет бритву, говорит мне:
— Серафино, вторую щеку ты уж сам побрей, — быстро сбрасывает халат и… шасть на улицу вместе с Сангиной.
Я и опомниться не успел, как они уже исчезли в воротах дома напротив, смеясь и перебрасываясь шуточками.
Тогда я не спеша, поскольку знал, что времени у меня будет вполне достаточно, кончил бриться, умылся, вытерся, а потом приказал Паолино:
— Иди домой, скажи моей сестре Джузеппине, чтобы она сейчас же пришла сюда… Беги бегом.
Вскоре пришла Джузеппина, испуганная, совсем запыхавшись. Когда я увидел ее, бедняжку, такую нескладную, кривобокую, с этим багровым родимым пятном на щеке, без которого бы верно не было нашей парикмахерской, открытой на ее деньги, — мне стало ее так жалко, что я решил было ничего ей не говорить. Но, во-первых, было уже слишком поздно, а во-вторых, я все-таки хотел отомстить Раймондо. И я сказал сестре:
— Ты не пугайся, ничего такого не случилось… Только Раймондо вот пошел в дом напротив, помогать дочке привратника вешать белье на террасе.
Она сказала:
— Бедная я, бедная… Ну, сейчас я ему покажу! — и сразу же пошла через улицу к воротам дома напротив.
Я снял халат, надел пиджак и опустил железную штору. Но прежде чем уйти, я повесил на дверь табличку, которую мы случайно прихватили вместе с умывальниками из другой парикмахерской; на ней было напечатано: «Закрыто по случаю семейного траура».
Я ударил его ножом непроизвольно, можно сказать — нечаянно. Джино увернулся, а я, не помня себя от страха, удрал домой. Там меня и арестовали. Но когда через несколько месяцев я вышел из тюрьмы, то заметил, что все смотрят на меня с восхищением, особенно в баре на виа Сан-Франческо а Рипа, где собираются тибрские лодочники. Прежде никто не обращал на меня внимания, а теперь передо мной прямо-таки распластывались. Парни наперебой набивались мне в друзья, угощали вином, заставляли рассказывать, как все случилось, расспрашивали, по-прежнему ли я зол на Джино или уже простил его. В конце концов я возгордился и сам поверил в то, что я отчаянный хулиган, из тех, кому все нипочем и кто за здорово живешь любому набьет морду. И когда мои новые дружки из бара шепнули мне, что в мое отсутствие Серафино завел шашни с Сестилией, я увидел, что все смотрят на меня, словно спрашивая: «Что теперь будет?» Не подумав, я брякнул:
— Известно, когда кошки дома нет, у мышей праздник. Но теперь я наведу порядок.
И только тогда сообразил, что взял на себя обязательство, выполнить которое не смогу. Я сказал: обязательство, выполнить которое не смогу. Объясню почему. Во-первых, Серафино был раза в два выше и толще меня; правда, он не казался слишком уж смелым парнем — он был весь какой-то дряблый, как мешок с тряпьем; бедра у него были очень широкие, плечи покатые, а на гладком бабьем лице не пробивалось ни единого волоска; но все же это был здоровенный парень, и я побаивался его. А во-вторых, я не так уж страстно любил Сестилию, во всяком случае не настолько, чтобы пойти из-за нее на каторгу. Она нравилась мне, это верно, но в меру. По правде говоря, я спокойно мог бы уступить ее Серафино. Просто-напросто я расхвастался. Я видел, что все меня теперь считают отчаянным хулиганом, и у меня не хватало духа заставить приятелей разочароваться во мне. И действительно, едва я заявил, что «наведу порядок», как все они поспешили ко мне со своими советами, предлагали свою помощь. Вскоре мы разработали план действий. Надо сказать, что Серафино давно должен был бы жениться на гладильщице Джулии. Было решено, что Серафино, Джулия, Сестилия, я и ребята из бара соберемся в остерии у ворот Сан-Панкрацио и отпразднуем мое освобождение. Там, выбрав удобный момент, я брошусь с ножом на Серафино и потребую, чтобы он оставил в покое Сестилию и женился как можно скорее на Джулии. Кажется, вся эта идея принадлежала брату Джулии, он кипятился больше всех. Но и все остальные, кто в большей, кто в меньшей степени, тоже имели зуб на Серафино, потому что, как они заявляли, он вел себя не по-товарищески.
Если бы мне предложили что-нибудь подобное шесть месяцев назад, я ответил бы: «Вы с ума сошли… Как это я могу припугнуть Серафино?.. И зачем? Из-за Сестилии?» Но теперь я стал совсем другим человеком. Я был отчаянным хулиганом, я был влюблен в Сестилию — отступать было невозможно. Я напыжился и, расправляя плечи, сказал:
— Предоставьте действовать мне…
Я сказал это так решительно, что какой-то более благоразумный парень счел нужным предостеречь меня:
— Но ты, того, не зарывайся. Ты должен лишь припугнуть его… И смотри не зарежь его до смерти,
— Предоставьте действовать мне, — повторил я.
В назначенный вечер мы отправились в остерию у ворот Сан-Панкрацио: Серафино, Джулия, Сестилия, Маурицио по прозвищу «дядя», брат Джулии Федерико, два брата Помпеи, Террибили, который принес с собой аккордеон, и я. План наш был всем известен: ребятам из бара потому, что мы вместе его разработали, Джулии и Сестилии потому, что их заранее предупредили. Даже Серафино, по-видимому, что-то подозревал. Он шел с нами очень неохотно и всю дорогу молчал. Сестилия и я ни разу не взглянули друг на друга. Мы держались холодно, как чужие. Но преисполненная радужных надежд, Джулия все время прижималась к Серафино. Она не переставая смеялась, как лошадь, обнажая десны. Остальные болтали и шутили, правда, немного принужденно, потому что в воздухе пахло грозой. Я же ужасно трусил. Время от времени я посматривал на Сестилию, надеясь, что вспыхнувшая ревность сделает меня храбрее. И не то чтобы она мне не нравилась, нет, у нее стройная фигурка, царственная походка, черные, обрамлявшие лицо локоны, большие темные глаза, злой рот. Она нравилась мне, но идти из-за нее на каторгу — это совсем другое дело. Я готов был крикнуть Серафино: «Забирай ее, если хочешь, и покончим с этим». Но это говорил во мне прежний Луиджи, Луиджи до ссоры с Джино. А новому Луиджи надо было схватиться за нож и отомстить.