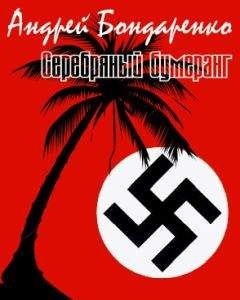Эта поездка стала ей казаться сном.
Монотонно звякают колокольца, монотонно поскрипывают оси, но какие разные звуки! Вот сидит впереди старик и странно молчит, а на охапке веток, на дне повозки, лежит Касиано, смотрит в щели между досками, как уходит назад земля, и тоже странно молчит, но совсем иначе, чем старик.
Из-под коровьей шкуры Нати видит уплывающее небо, то ясное, то в облаках, видит, как меняется его цвет от утра к вечеру. Иногда ей чудится, что четверо мертвецов катятся в гробу на колесах. Когда ребенок плачет от голода, она дает ему грудь, не поворачивая головы и продолжая смотреть на изменчивое небо, которое раскачивается над ними при каждом толчке.
Они поднялись и спустились по багровым склонам Каагуасу. Наутро четвертого дня старик показал рукой вдаль. Касиано и Нати привстали. Впереди открылась сияющая долина Сапукая, посреди которой высился холм Серро-Верде. Они различили деревню около железнодорожного полотна, почерневшие развалины, остатки мятежного эшелона, вырытую бомбами воронку, вокруг которой копошились люди — крохотные муравьи.
Старик жестом дал им понять, чтобы они слезли с повозки. Нати и Касиано были настолько взволнованы, что даже не смогли поблагодарить его.
Повозка поехала дальше и скрылась за поворотом дороги.
Они спустились в деревню. Касиано шел впереди как завороженный, солнце жгло его покрытую рубцами спину. Вскоре они добрались до первых домов. Люди смотрели на них безучастно.
— Пошли в Коста-Дульсе, домой, — умоляюще протянула Нати.
Касиано, казалось, не слышал ее. Он продолжал оцепенело идти вперед, полностью покорившись безумию, которое, подобно осколку бомбы, вошло в его мозг в последний день на плантации.
Нати беспрекословно следовала за мужем. Она только догадывалась, как лихорадочно блестят его глаза. В конце заброшенных путей, среди сломанных, обожженных пулеметным огнем деревьев стоял вагон. Он был разрушен меньше остальных.
К нему они и направились.
1
Грузовик долго тарахтел по негрунтованной ухабистой дороге, которая петляла среди хлопковых полей и плантаций сахарного тростника. Лигах в трех от деревни шофер круто свернул в сторону и повел машину к лесистому островку, где находились гончарни. Мы только что миновали лепрозорий. Прокаженные стояли в дверных проемах ранчо или лежали под деревьями и, приподняв свои изуродованные головы, хрипло кричали нам вслед:
— До свиданья, Кирито! [47]
Кристобаль Хара приветливо махал им рукой.
— Кто это такие? — спросил я.
Он не ответил. Наверное, не слышал меня. Я оглянулся. Голые ребятишки с огромными вздутыми животами неслись за грузовиком и пронзительно кричали, как подбитые птицы.
Сидевший сзади нас маленький толстяк строил им смешные рожи. Потом вынул из кармана несколько галет и стал бросать на дорогу.
— Налетай, детвора, налетай! — крикнул он.
Пузатые ребятишки бросились к обочине и кубарем покатились по песку, выхватывая друг у друга галеты.
Среди других ранчо я увидел круглую бревенчатую хижину, выстроенную когда-то русским врачом, который незадолго до своего загадочного исчезновения основал здесь лепрозорий. Я вспомнил Доктора так четко, словно только вчера его видел. Разъяренные пассажиры кричат, что он украл ребенка, и выталкивают его пинками из вагона. Доктор разбивает в кровь колени о красный земляной перрон станции Сапукай.
Вон его дом. Стоит как ни в чем не бывало. Правда, почернел и покрылся чешуйчатой коркой, какой от времени обыкновенно покрывается древесина. Хозяин исчез, дом остался. Никто не знает, где теперь Доктор. Вокруг теснятся ранчо, в которых свила себе гнездо страшная болезнь. Прошло много лет, но оставшиеся в живых прокаженные и по сей день ждут возвращения своего благодетеля. Их беззащитность, их дети, родившиеся и выросшие среди больных, и это маленькое селение отверженных, злокачественной опухолью вздувшееся на спине соседней деревин, среди редкого леса, — вот доказательства их преданного ожидания.
Я вдруг подумал, что в каждом ранчо наверняка хранится как реликвия изрубленная топором статуя— из тех, что Доктор обезглавил накануне своего исчезновения из этих краев, столь же удивительного, как и его появление здесь.
Машину сильно тряхнуло, и я отвлекся от своих размышлений.
— Говорят, прокаженные иногда приходят по праздникам в деревню. Это правда?
Мой спутник опять не обратил на меня никакого внимания или просто не расслышал.
Еще до того, как проехать лепрозорий, мы миновали кладбище. Какая-то женщина выпалывала сорную траву вокруг крестов. Ей помогал светловолосый мальчуган с голубыми глазами.
— До свиданья, Мария Регалада! — крикнул ей толстячок.
Грузовик долго бросало на ухабах. Наконец мы подъехали к расчищенной среди кокосовых пальм прогалине. Она была вся исполосована старыми и свежими колеями, — вероятно, грузовик приезжал сюда часто. По другую сторону лесистого островка я увидел большой соломенный навес гончарни, печь для обжига кирпичей и устройство для размягчения глины. На неравном расстоянии друг от друга возвышались затвердевшие, похожие на камень, холмики сухой растрескавшейся грязи. Подъехавший грузовик спугнул сидевшую на них стаю ястребов. Птицы разлетелись в разные стороны, лениво разрезая крыльями воздух.
Ни огня, ни дыма, ни шума. Гончарни Коста-Дульсе теперь бездействуют: воды нет, засуха.
Водитель выключил мотор и спрыгнул на землю. Толстячок сполз с грузовика, как гусеница с ветки. Кристобаль Хара буркнул ему что-то похожее на приказ, а мне жестами дал понять, что теперь нужно идти пешком.
— Дальше не поедем? — указав на машину, спросил я упавшим голосом. Меня пугала жара.
— Это ж река Кааньябе, — объяснил толстячок. — Не проехать.
Мой проводник пошел вперед. Я взял с сиденья снятый в пути ремень с револьвером. Толстячок пристально глядел на меня, не скрывая любопытства. Надев ремень, я спросил:
— Вы не идете?
— Нет, я остаюсь. Посторожу немного… — Он замялся, как будто пожалел о своей привычке болтать лишнее, которая взяла верх и на этот раз.
— А что тут сторожить?
— Э… грузовик, — бухнул он первое, что пришло на ум.
Я догнал проводника. Это мне удалось не без труда. Растрескавшаяся глинистая земля, покрытая слоем высохшей на солнце селитры, и острая, как бритва, ломкая трава под пологом густой пыли говорили о том, что в этом обычно сыром месте сейчас совсем нет воды.
Наши тени, постепенно уменьшаясь, ползли следом и скоро исчезли под босыми ногами проводника и моими собственными, обутыми в армейские башмаки.
2
Говорил он мало и неохотно, к испанскому языку прибегал редко. Отвечал односложно, не поворачивая головы, сосредоточенно глядя перед собой. На ярком свету щурились его глаза — две узкие щелки, два симметричных рубца поблескивали на лице.
От моего проводника я узнал только, как его зовут и некоторые подробности этой странной истории с полуразрушенным бомбами вагоном, который, как мне говорили в деревне, чудом катился по полям.
Пока мы ехали по тряской дороге на принадлежавшем гончарням грузовике, я пытался развязать язык водителю, нарушить его упорное молчание. Дружески похлопывал его по плечу, неумело льстил, задавал наводящие вопросы, — словом, прибегал ко всем нехитрым уловкам, которые люди обычно пускают в ход, чтобы расположить к себе собеседника. Я даже упросил его пригубить каньи из моей фляги. Но он упрямо молчал и, казалось, приберегал разговоры для другого случая. А пока что его рот кривился в горькой усмешке, Похожей на издевку. Но нет, это была скорее всего невольная улыбка, которую вызывало переполнявшее его молчание.
Когда мы с ним отдыхали в тени деревьев у речки, он обмолвился о рельсах из кебрачо, которыми, очевидно, пользовались, чтобы докатить до леса этот вагон, вернее, искалеченную развалину из железа и дерева. Больше мне ничего не удалось выудить у моего проводника. Крепко сцепив пальцы, он вытянул костлявые руки и с какой-то нарочитой, удручающей медлительностью стал передвигать их по земле. А я представил себе, как наводят мост. Потом вдруг вспомнил свой провал на экзамене по организации тыла и транспорта на последнем курсе военного училища — неуместная ассоциация, просто нелепая после всего, что произошло.
А может, я неверно истолковал его движения, усмотрев в них намек на деревянные рельсы, может, этим он хотел выразить нечто совсем другое. Когда он говорил, его подбородок упирался в колени, а взгляд был устремлен туда, где над кустарником дрожал мутный рассеянный свет.
— Как же все-таки катили вагон? — выпытывал я.
— Понемножку, — ответил он, едва шевеля губами.