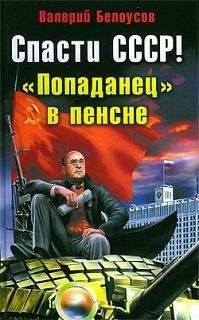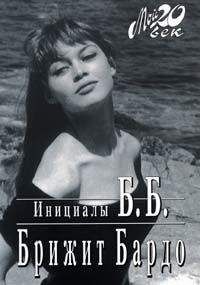Я томлюсь здесь, за решеткой, в синтетической обувной коробке. Томятся мои глаза, натыкаясь на стены. Я погрузилась в темноту своих обветшалых заблуждений из-за того, что развлекала всех подряд слишком ярким фейерверком. Мой взгляд то ищет отдыха на дне глазницы, то мгновенно устремляется вперед. Ближе к полудню миссис Элверс позвонит своему мужу Ричарду по мобильному телефону, похожему на черную пластиковую большеберцовую кость. В их тридцати магазинах тридцать скучающих продавцов заворачивают в бумагу оберточную бумагу, а потом регистрируют покупку. Да, в общем-то настало время уходить.
Но я все еще подвожу итог прошлому — даже сейчас. Даже сейчас, когда рак, подобно спруту, загоняет мои мысли в угол и тянет к ним щупальца с присосками. Взглянем фактам в лицо, присоски нужны для того, чтобы сосать. Да, я могу подытожить прошлое. Привет, мое прошлое! Ты проживаешь на Главной улице в США! Я буду говорить с тобой, комок слизанной и выблеванной шерсти. Я брошу тебя на пол, чтобы посмотреть, куда ты покатишься. Но нет. Прошлое слишком свалялось, оно слишком долго переваривалось, чтобы служить орудием пророчества. Если я попытаюсь ощутить прошлое, его фальшь заставит меня содрогнуться. Оно мне не принадлежит — я принадлежу ему. Я совершила страшную ошибку. Я полагала, что это я провожу время, но это время провело меня. Тех, кто остается здесь, навалом, я же отваливаю отсюда, понимая: все, что от меня останется — это колпачок от шариковой ручки. Хрупкий пластиковый наконечник, за которым тянется двадцать тысяч метров возможности выразить себя — длинная нить еще непроявленного, несформировавшегося смысла. Быть может, ее вытянет кто-то из врачей, чтобы подтвердить, что я мертва.
— Ты еще не на Священной Территории, детка — йе — хей? — Это чернокожий средних лет в белой широкополой шляпе. Он просовывает голову внутрь, раздвинув занавески, отразившись в них, словно в зеркалах — копна курчавых пыльных волос не умещается под шляпой, — и говорит: «Ты еще не на Священной Территории, детка — йе-хей?» Потом уходит.
Почему моя дочь не заметила его? А, понятно, хотя грызть ногти — не лучшее занятие. Неужели этот чернокожий махал бумерангом мне? Кто он такой — абориген? Вот он вернулся.
— Слушай, Лили, осталось еще мало-мало, я тебе говорю. Сейчас ты лежать смирно. Встречать новое время. Обвиться вокруг «нее». — Он указывает бумерангом на грызущую ногти Наташу. — Сделать новую радугу… — Его произношение — смесь прищелкивания, ударов языком по нёбу и слишком открытых австралийских гласных. Какого черта он здесь делает? Кто впустил его в палату? Вот погоди, в Королевской клинике ушных болезней тебя живо услышат! Господи — боже! В этих больницах становится опасно. Любой психопат может сюда ворваться и приставать к больным. И даже похитить меня. Похитить мать у ее дитя. Ха-ха! Ха-ха-ха…
«Хххраарргхххршео… Хьяяйррррг-х… х-х-херг!»
— Сестра! Сестра!
Нэтти вскакивает со стула и выбегает из кабинки. Она будет звать на помощь любую сестру, кроме собственной — как и я. Она притаскивает пожилую, раскрасневшуюся брюнетку, которая где-то пряталась. Ухоженную. Какого черта ее потревожили?
— Да, да. Что здесь происходит?
«Хххраарргхххршео… Хьяяйррррг-х… х-х-херг!»
Она наклоняется и светит фонариком мне в глаза, не для того, чтобы посмотреть, что у меня внутри, а просто чтобы проверить реакцию зрачков на свет. Это жутковато, словно ты бойлер и кто-то наклоняется, чтобы проверить твой запальник. Медсестра выпрямляется, дотягивается до висящих на капельнице пакетов, поправляет прозрачные трубки. Я тоже становлюсь прозрачной, как учебный муляж человеческого тела. Или шариковая ручка. Я вижу, как работают мои капилляры, вены, артерии, втягивая седативные, поглощая опиаты. Боли больше нет. Нет страдания. Вам, вероятно, приятно было бы об этом знать. Но… нужно хранить… молчание. Никому ни слова.
Боли нет, потому что нет меня. Нет меня? Нет, неверно — нет тебя. Боль терзала кого-то другого. Боль терзала меня — так мне кажется. Терзала меня, вспоминающую разные глупости, а больше всего тебя — ничтожную боль. Боль — моя забубённая подружка на этой дурацкой гулянке. На боль нужно время — время болезненно. Может ли быть… что время… и боль… одно и то же? Боль — это камушек, брошенный в бурный и бессмысленный поток тривиального перехода к чему-то новому, который я ощущаю, не дыша всей грудью — или дыша без груди? Скоро я махну на все рукой и поплыву по течению. Помните модные в семидесятых приспособления, сулившие избавить вас от всех мучений при резке лука? Приберегите их до безмятежной, ничем не омраченной старости. Зигзагообразное лезвие вставляется в пластиковый цилиндр и приводится в движение с помощью пружинного толкателя, скачет вверх и вниз. Результат всегда разочаровывал. К тому же эти штуки было чертовски трудно мыть.
Меня кромсали зигзагообразным лезвием, и рваные куски моей старой грязной плоти остались в Королевской клинике ушных болезней. Мое тело лежит на субсидируемой кровати, но мое обнищавшее сознание находится снаружи, за занавесками. А что до чувств — кому они нужны, когда не осталось того, кто мог бы чувствовать? От них и раньше было мало проку, чувства — всего лишь омертвевшая кожа нашего равнодушия, которую мы соскребаем друг с друга, пока не превратимся в прах. Кому охота пылесосить эти стертые ороговелости? Кому они нужны? Что это? Куда я направляюсь? С кем? И зачем, зачем, зачем, мамочка? Все эти годы я думала, что одинока, но лишь сейчас поняла, что значит быть одной.
Я была одинока пятнадцать лет назад, на равнинах Восточной Англии.
Нет, я одинока сейчас, в Олдборо, где небо такое же линяло-серое, как покрывало на смятой постели в гостинице «Шип» в Данидже, где я провела ту ночь. Это заведение было скорее пабом, чем гостиницей, хозяин великолепно вписывался в интерьер — с усами и в жилете с брелоком, — он метался между стойкой и расположенной в глубине кухней. Казалось, он делает все одновременно: обслуживает бар, готовит еду, подает ее. провожает толстых посетителей — в тот вечер толстой была только я — в их смятые постели.
Нет, не то. Я вспоминаю о прошлом — и это не то. Небо над Олдборо такое же линяло-серое, как дешевые пластиковые занавески; подобно им, оно распахивается, впуская Стила, Боуэн, медсестру и смазливую девчушку. Врачи-исполины рассаживаются в непостижимо величественном пространстве больничной палаты. Плитки огнеупорного кафеля плывут вдали как маленькие плоские планеты. Все смотрят на меня. Это тяжело. Лучше побыстрее убраться отсюда — вернуться назад.
Она слишком поздно начала совершать моцион, предпринимая короткие велосипедные прогулки на музыкальные фестивали и цветочные выставки или осматривая церкви — в ее унылой приемной стране было множество шпилей. Трое детей, одна эпизиотомия, два континента, ворох фобий, куча депрессий. Белье толстой пожилой женщины. Это сильно затрудняло велосипедные поездки. Зачем она в них отправлялась? Верите или нет, даже в округлые семидесятые еще попадались округлые женщины средних лет, которые думали, что катание на велосипеде в принципе что-то значит. Они катались на велосипеде и ели в ресторанах вроде «Крэнкса» или «Сереса», где подавали здоровую пищу, в своем упорстве они стремились ублажить саму Богиню Плодородия. Они объедались тертой морковью и пили мерзкий сливовый сок. Они изобрели экологическое сознание, создав кооперативы по закупке овощей, и это позволяло им носить резиновые сапоги в городе.
Бедная Лили. Бедная, бесконечно трогательная, толстая, старая, неряшливая Лили; jolie laide[13] которой уже давно пора в могилу. Грустно было на нее смотреть. Последние пятнадцать лет она усердно подбирала и прятала всякий хлам: консервные банки, оберточную бумагу, пустые пачки из-под сигарет — все что угодно. Засовывала в карманы пальто и даже в сумку, а потом несла к себе, семеня мозолистыми ногами, пока не добиралась до места, которое в тот момент называла домом, и присоединяла свои новые находки к уже имевшимся. Неудивительно, что она всегда обращала внимание своих детей на старьевщиков, она сама была настоящей старьевщицей, несмотря на буржуазное происхождение. Но, в отличие от нее самой, любой хлам оказывался рядом с подобным же хламом, которого становилось все больше. После каждого такого похода в доме Лили росли горы мусора, пока он не отправился в последний путь — вниз по Темзе на большой железной барже, на помойку.
В Олдборо, опершись на свой «Рали»,[14] Лили стоит у ратуши и смотрит на безбрового человека, который возится у себя в палисаднике, подстригая папоротник секатором. Любопытно, думает она, что отсутствие такой, казалось бы, неприметной черты, как брови, придает ему на редкость зловещий, уродливый и странный вид. Кроме того, забавно — она переминается с одной мозолистой ноги на другую, ощущая свежие, натертые педалями волдыри, — что я это заметила. Я никогда не наблюдала за людьми, они ничего для меня не значили. Сколько еще подобных наблюдений мне осталось? Пять в день? Десять, если ездить на прогулки? Сколько лет осталось до дня, когда сбудется мое пророчество и из темных вод вылезут раки — кромсать мою папоротниковую плоть клешнями-секаторами? Может быть, десять — значит, я умру в 1984 году. Или пятнадцать? Кто знает? Никто не должен знать час своей смерти или смотреть на солнце. Особенно в Олдборо. Особенно в этом июне, не по сезону ветреном и хмуром. Должно быть, к полудню начнется дождь. Она довольна, что захватила шерстяное белье. Большие шерстяные панталоны.