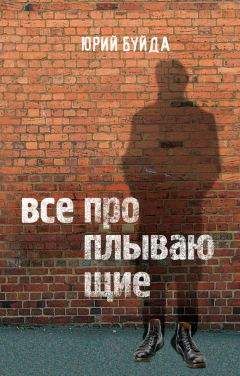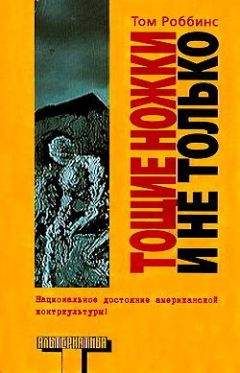– Ладно, Леша. – Он снова закурил, откинув длинные волосы со лба. – Чего тут. Ей было наплевать на меня, и я и сам удивляюсь, почему эта история до сих пор не дает мне покоя. В конце концов она сама выбрала себе судьбу, хотя, конечно, это и было глупо: назло матери – так это выглядело, а может, и было – связаться с человеком, который и ей внушал страх, – я в этом уверен: он внушал ей страх, хотя она, наверное, и не понимала – почему. Она сказала мне тогда: он увезет меня отсюда. А ведь он ничего ей не обещал. Вот она и ушла из дома. Потому что, если бы она осталась со мной, она никуда не ушла бы отсюда, даже если б потом мы и уехали куда-нибудь. Понимаешь? Ей хотелось уехать – в другой мир. Ведь это мать… нет, я не виню ее! Но ведь это мать научила ее грезить о другом мире. Мать и тетка. Но начала мать. Это она называла ее не Верой, а Вероникой, это мать рассказывала ей о райской жизни, о теплом море на юге, где сама никогда не бывала, это мать показала ей платье…
Он соскочил с сундука и рывком поднял крышку.
– Включи свет! Слева!
И когда вспыхнул свет, он достал из сундука (Леша узнал сверток, который положили рядом с мертвой девочкой) изъеденное молью, мятое, потускневшее бархатное платье с кружевным воротником, – да, алый бархат, сквозивший маленькими дырочками, потускнел и запылился, но платье, как и встарь, было головокружительно красиво, и от каждой его складки веяло той жизнью, где не было вульгарных Верок, а были только прекрасные Вероники, где всегда играла музыка, где плескалось теплое море и шелестели пальмы – и что там еще придумала эта женщина, которая всю жизнь читала лишь две книги – «Три мушкетера» да «Вечера на хуторе близ Диканьки», которая никогда не видела вблизи мир своей мечты – ну, разве что в «Индийской гробнице» или «Парижских тайнах», – платье, которое надевали только в этой комнате, перед этим тусклым зеркалом, всего несколько раз в году, тайком от всех, даже от домашних, и это, конечно, были праздники мечты – для матери и дочери, – словом, это уже было не платье, но символ другой жизни, той жизни, которую мать не смогла прожить, – может, потому, что дала слово этому человеку, своему мужу, может, просто потому, что у нее не хватило отваги, как знать, – во всяком случае, ее дочь не связала себя словом с тем человеком, который считался ее братом, но не потому, что он считался ее братом, а потому, что он был частью этого – этого! – мира, из которого предстояло бежать, и вот она отважилась, она бросилась навстречу тайне, навстречу прекрасному, которое все заставляло себя ждать, – кинулась очертя голову, и, наверное, все-таки не ее вина в том, что этот путь уткнулся в мусорную кучу на базаре…
Он осторожно повесил платье на плечики и пристроил на дверце шкафа.
– Вот и все, – уже спокойно сказал он. – То есть это все, что было в сундуке. Ни денег, ни драгоценностей, ни сберкнижки, ни дракона, – мечта. Какая б она ни была. Грязная, пыльная, мятая, траченная молью, пошлая, смертоносная, наконец.
Под утро браконьеры, которые уже несколько ночей подряд выслеживали того, кто рвет их снасти, на песчаном островке ниже водопада забили веслами некое чудовище с обезьяньей головой на длинной шее, конскими ногами и туловищем слепой собаки. В желудке чудовища обнаружили три рваных бредня, ржавую швейную машинку и резко пахнущий водкой граненый стакан. Собаки это мясо жрать отказались.
В полдень похоронная процессия двинулась по Седьмой улице. С непереносимым визгом, разбрызгивая искры из-под колес, остановились три поезда – два товарных и вильнюсский пассажирский. Над крышами городка, над липами и реками, над окрестными полями и лесами поплыл густой голос Трубы – могучего гудка бумажной фабрики. К нему присоединились гудки макаронки и маргаринки, мясокомбината и мельницы, трикотажки и хлебозавода… Загудели тепловозы, подал голос Чарли Чаплин – доживавший свой век на запасных путях, не годившийся уже даже в маневровые паровозик. Гудели автомобили и автобусы, мотоциклы и мопеды. С Преголи донеслись гудки барж, шедших в карьер за песком и гравием. В скорбном молчании замерли птицы в небе, звери в лесах и рыбы в реках.
Во главе похоронной процессии шла Капитолина с маленькой подушечкой, на которой тускло мерцала медаль «Партизану Отечественной войны» первой степени. За нею Геновефа и Данголя несли портрет Буянихи – в последний момент вдруг обнаружилось, что ни у кого не сохранилось ни одной ее фотографии, и пришлось вырезать снимок из районной газеты двадцатилетней давности, на котором сквозь полиграфический туман проступала чья-то фигура в обнимку с коробкой вермишели. Далее следовали двести человек с траурными венками и еще двадцать – с крышкой гроба. С приличествующей случаю скоростью ползла чернолаковая полуторка, в ее открытом на все стороны кузове, устланном ветками ели и туи, стояла лодка (ночью покойницу попытались переложить в мухановский гроб – он развалился) с телом Буянихи, которая сложенными накрест мертвыми руками прижимала к груди какую-то бумажку, подсунутую в последний момент Прокурором.
В первом ряду за машиной, неотрывно глядя на покачивающийся задний борт, шли Валентина, Григорий, Михаил, Петр Большой и Петр Рыжий (тот самый Рыжий, которого однажды ночью разъяренная Буяниха ружейным прикладом выгнала вон из сада, где он поджидал эту похотливую дурочку), Иван и Вера-Вероника (Буяна так и не смогли извлечь из сарая, где он что-то остервенело мастерил), а также Солдат Маруся со своими прелестными детьми. За ними шагали Леша Леонтьев в парадном мундире, доктор Шеберстов со всеми орденами на необъятной груди, Прокурор, Мороз Морозыч, Веселая Гертруда, пилот штурмовика, уже получивший прозвище Чиримэ, и черный незнакомец, с которого по-прежнему ручьем текло. Сбоку, отталкиваясь ногами от земли, катил на мопеде с выключенным мотором Вита Маленькая Головка. За ними шли Граммофониха со своей состаревшейся дочкой-красавицей; Андрей Фотограф в широкополой шляпе и с длинным шарфом на шее; безмятежный мастер Степан Муханов и его отец Аввакум Муханов с вросшей в губу вечной сигаретой, набитой грузинским чаем высшего сорта; пропахший нафталином и кроличьей мочой Фокусник в черных лакированных ботинках; Миленькая и Масенькая с Мордашкой на руках; Надя Сергеева и шестнадцать ее подруг; одноногий кузнец Любишкин; Валька и Желтуха; дряхлый Афиноген с новеньким языком во рту; слепой Дмитрий; Зойка-с-мясокомбината, известная блудница, питавшаяся сырым мясом; вечно простуженная буфетчица Зинаида; Феня из Красной столовой; цыган Серега; Мишка Чер Сен со своими пятерыми черсенятами; обезьянка Цитриняк; бабушка Почемучето с громко тикающим будильником в ридикюле; Миша Рубщик; Дуся-Эвдокия без шести пальцев на руках и двух на ногах (память о ленинградской блокаде); Резаный и Сергеюшка с ледяными петушками в зубах; Алеша Рязанцев об руку с Алексеем Сергеевичем Рязанцевым; Стрельцы; Уразовы; Ирус со своей компанией; Моргач, от которого всегда пахло машинным маслом; Разводовы Генка и Вовка – эти, как всегда, пьяненькие; музыканты, привязанные веревками к инструментам; Таня-Ваня верхом на сундуке, с самогонным аппаратом в руках; прокурорские собаки; Калабаха; главврач с льняной бородкой и руками молотобойца; Добродетель, Любовь, Сострадание, Участие и Надежда в легкомысленных одеяниях; редактор районной газеты Юрий Васильевич Буйда со своей женой Еленой Васильевной и детьми Никитой и Машенькой; бумажные фигурки, которые на досуге любил вырезать Прокурор; траченное молью бархатное платье; Пятьдесят Самых Толстых Женщин – среди них по всем статьям выделялась горторговская Лидочка, весившая ровно десять пудов (без ботинок); Аркаша Стратонов, съедавший в один присест ведро вареной картошки; старуха Три Кошки; Плюшка; Серега и Митроха; Миллионер, ставший всеобщим посмешищем после того, как его жена отдала захожей цыганке ветхий полушубок, в котором этот скряга прятал семь лет деньги; Три Богатыря с зелеными бородами и Три Мушкетера; прокурорский стул; пасечник Рудый Панько; воняющий мазутом Князь Тьмы из Гнилой Канавы; красный бык; белый лев; Недотыкомка, непрестанно ковыряющийся в носу; заплаканные сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени; Барыкова – Бессалько; Францоз – Хокусаи; полупрозрачные золингеновские бритвы; керогазы; браконьеры; Водокачка Буянихи; Мостовые Буянихи; Голуби Буянихи; Водопад Буянихи; Шлюзы Буянихи; Сновидения Буянихи; Облака Буянихи; Солнце, Луна и Звезды Буянихи; Пространство Буянихи; Время Буянихи…
С раннего утра доктор Шеберстов никак не мог избавиться от тягостного предчувствия, что вся эта затея с похоронами добром не кончится. «Помяни! – крикнул он жене. – Не тот случай! Не та баба!» Всю дорогу он ждал какого-нибудь подвоха, поэтому и не удивился, когда Граммофониха шепотом сообщила, что Буяниха, кажется, зашевелилась в лодке, и только распорядился накрыть ее с головы до ног покрывалом. Не удивился он и тому, что, миновав последний мост, на перекрестке у Гаража полуторка заглохла, да и никто не удивился: вот уже почти сорок лет всякий раз она глохла именно на этом месте; однако на этот раз машину завести не удалось. Громко фыркнув, доктор Шеберстов приказал нести гроб на руках, и тотчас сто пятьдесят самых крепких мужчин сняли лодку с машины. Процессия двинулась дальше.