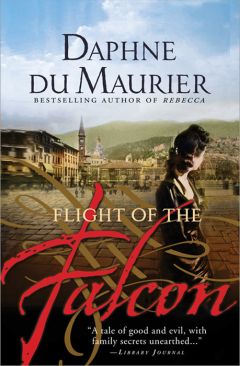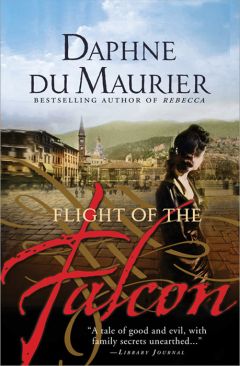Закончив, я снова сел на стул. Я думал, что его обвиняющий взгляд все так же прикован ко мне. Но Альдо невозмутимо чистил апельсин.
— Ты видишь? — спросил я, чувствуя себя совершенно измученным. — Ты понимаешь?
Он положил в рот крупную дольку апельсина и проглотил.
— Да, вижу, — сказал он. — Это довольно легко проверить. С полицией Руффано у меня очень хорошие отношения. Надо всего-навсего снять трубку и спросить их, правда ли, что мертвая женщина — это Марта.
— И если это так?
— Ну что ж, очень плохо, — сказал он, протягивая руку за следующей долькой. — Она бы все равно умерла, учитывая ее состояние. Джиджи не могли с ней справиться. Никто не мог. Спроси Джакопо. Она была пьяницей.
Он не понял. Он не понял, что если Марта убита, то убита лишь потому, что я вложил ей в руку десять тысяч лир. Я во второй раз объяснил ему это. Он окунул пальцы в миску с водой, которая стояла рядом с его тарелкой.
— Ну и что? — спросил он.
— Разве я не должен был сообщить об этом римской полиции? Разве это не объяснило бы мотив убийства? — повторил я.
Альдо встал. Подошел к двери и крикнул, чтобы Джакопо нес кофе. После того как кофе принесли и дверь закрылась, он налил его нам обоим и стал медленно, задумчиво помешивать свой.
— Мотив для убийства, — проговорил он, — время от времени есть у каждого из нас. В том числе и у тебя. Если тебе так хочется, беги в полицию и расскажи там то же, что и мне. Ты увидел лежащую на церковной паперти старуху, и она напомнила тебе алтарный образ, которым тебя стращали в детстве. Прекрасно. И что же ты делаешь? Ты склоняешься над женщиной, и она поднимает голову. Она узнает тебя, ребенка, который двадцать лет назад бежал с немецкой, армией. Ты узнаешь ее, и у тебя в мозгу что-то щелкает. Ты ее убиваешь в безумном порыве убить преследующий тебя кошмар и затем для успокоения совести вкладываешь в ее руку ассигнацию в десять тысяч лир.
Он залпом выпил кофе и направился в другой конец комнаты. Снял трубку.
— Я свяжусь с комиссаром полиции. Сегодня воскресенье, он, скорее всего, дома. По крайней мере, он сообщит мне последние новости.
— Нет, подожди… Альдо! — в панике крикнул я.
— Почему? Ты ведь хочешь знать, не так ли? Я тоже.
Он назвал номер. Я уже ничего не мог сделать. Теперь это была не моя тайна, не моя мука. Альдо разделил ее со мной, отчего смятение мое только усилилось. По его мнению, это убийство мог бы совершить и я. У меня не было свидетелей, которые подтвердили бы мое алиби. В предложенном им мотиве была своя страшная логика. Настаивать на невиновности бессмысленно. В полиции мне не поверят — да и с чего им верить? Мне никогда не доказать, что я здесь ни при чем.
— Ты ведь не собираешься впутывать меня в это дело? — спросил я.
С наигранным отчаянием Альдо поднял взор к небесам и заговорил в трубку.
— Это вы, комиссар? — сказал он. — Надеюсь, я не оторвал вас от завтрака. Это Донати, Альдо Донати. Очень хорошо, благодарю вас. Комиссар, я встревожен слухами, которые ходят по Руффано. Мне рассказал про них мой слуга Джакопо. По его словам, пропавшая несколько дней назад старая нянька нашей семьи Марта Зампини может оказаться той самой женщиной, которую убили в Риме… да… да… Нет, вы же знаете, я слишком занят и редко читаю газеты, во всяком случае, об этом мне ничего не попадалось. Джиджи, да. Она жила у них последние несколько месяцев… понимаю… да… — Он посмотрел на меня и кивнул. У меня упало сердце. Похоже, что это правда и я увяз еще больше. — Значит, нет никаких сомнений? Мне очень жаль. Да, она совершенно опустилась. Пока это было возможно, она служила у меня. Полагаю, Джиджи ничего вам не могут сообщить? Но почему Рим? Да, внезапный порыв… возможно… Вы надеетесь вскоре арестовать убийцу? Хорошо. Хорошо. Я буду вам очень признателен, если вы свяжитесь со мной, как только узнаете что-нибудь новое. Естественно, между нами. Благодарю вас… благодарю.
Альдо положил трубку. Затем взял нераспечатанную пачку сигарет и бросил ее мне.
— Успокойся, — сказал он. — Скоро ты будешь вне подозрений. Они рассчитывают арестовать убийцу в ближайшие двадцать четыре часа.
В том, что Альдо предположил, будто мое волнение объясняется страхом за собственную шкуру, сказывалось его давнее отношение ко мне, и возражать было бесполезно. Да, виновен. Виновен в том, что вложил деньги в ее руку и не оглянулся. Виновен в том, что перешел на другую сторону улицы.
Муки совести побудили меня перейти в нападение.
— Почему она пила? Разве ты о ней не заботился?
Его ответ поразил меня своей страстностью.
— Я ее кормил, одевал, но она все равно сорвалась. Почему? Не спрашивай меня, почему. Видовой атавизм, наследие предков-пьяниц. Если кто-то твердо решил покончить с собой, ты не можешь ему помешать. — Он громко позвал Джакопо. Тот вошел и забрал кофейный поднос. — Меня ни для кого нет дома, — сказал Альдо. — Мы с Бео потеряли двадцать два года. За несколько часов их не восполнишь.
Он взглянул на меня и улыбнулся. Комната, теперь такая знакомая и родная своей обстановкой, сомкнулась вокруг меня. Ответственность за мир со всеми его невзгодами на мне уже не лежала. Альдо возьмет ее на себя.
Мы проговорили весь день. Иногда молча входил Джакопо с горячим кофе и также молча удалялся. Комната наполнилась дымом от моих сигарет, только моих. Альдо сказал, что бросил, что его давно не тянет курить. Мало-помалу я выудил из него историю его послевоенных лет. Как после перемирия он попал к партизанам. Даже тогда он ничего не знал о роковой телеграмме и полагал, будто мы думаем, что он в плену. И только добравшись до Руффано через несколько месяцев после того, как мы сами бежали с немецким комендантом, он узнал правду от Марты. До них же дошли слухи, что по пути на север, к австрийской границе, наш конвой попал под бомбежку и что наша мать и я убиты. Так, каждый по-своему, мы оказались в разных мирах.
Ему, двадцатилетнему молодому человеку, и мне, одиннадцатилетнему мальчику, предстояло начать новую жизнь. Мне — неделю за неделей смотреть на то, как женщина без принципов и убеждений с каждым днем, с каждой ночью становится все более легкомысленной, все более неразборчивой, как блекнет и увядает. Ему — помнить, как та же женщина с ним прощалась, когда он уезжал после последнего отпуска, — сердечная, любящая, полная планов на будущие встречи — и затем пережить крушение этого образа, слыша не только от Марты, но ото всех знавших ее рассказы о том, чем она кончила. Сплетни, стыд, позор. Кое-кто даже видел, как она смеялась, уезжая в машине коменданта, а я размахивал из окна машины флажком с изображением свастики.
— Это был последний удар, — сказал Альдо. — Ты и твой флажок.
Я вновь вернулся в прошлое и, глядя на него глазами Альдо, чувствовал, что ее позор становится моим позором. Я пытался привести хоть какие-нибудь оправдания. Он сразу отметал их.
— Бесполезно, Бео, — сказал он. — Я не хочу ничего слышать. Что бы она ни делала во Франкфурте или Турине, во что бы ни превратила жизнь этого Фаббио, которого ты называешь своим отчимом, как бы ни была несчастна, больна, беспомощна — все это не имеет значения. Для меня она умерла в тот день, когда уехала из Руффано.
Я спросил, видел ли он могилу нашего отца. Да, он ее видел. Он был в лагере для военнопленных, где похоронен отец. Один раз. И больше туда не возвращался. Эту тему он тоже не хотел обсуждать.
— Он висит вон там, на стене, — сказал Альдо, показывая рукой на портрет. — Больше мне ничего не надо. Портрет и его вещи в этой комнате. А еще то наследие, которое он оставил после себя в герцогском дворце. Я решил продолжить с того, на чем он остановился, и, как видишь, мне удалось сделать больше, чем ему. Это моя цель.
Он говорил с какой-то странной горечью, словно и уважение, которым он пользуется в Руффано, и быстрая, успешная карьера его вовсе не радуют и жизнь его прошла впустую. Словно что-то постоянно от него ускользало. Но не гордость удовлетворенного честолюбия, не деньги, не слава.
— Я хотел одного. Я хотел другого. Я хотел осуществить такое-то и такое-то начинания.
Ни разу не заговорил он в настоящем или в будущем времени. После одной затянувшейся паузы в нашем разговоре я спросил у него:
— Ты не собираешься со временем жениться? Завести семью? Чтобы после тебя тоже что-то осталось?
Альдо рассмеялся. В это время он стоял у окна и смотрел на далекие горы. Из окна была хорошо видна Монте Капелло, под которой утром мы проехали на машине. Теперь, с приближением вечера она особенно четко вырисовывалась на фоне неба, синяя, как одеяние китайского мандарина.
— Помнишь? — спросил он. — Когда ты был совсем маленьким, я тратил много времени и сил, чтобы построить карточный дом на столе в гостиной, на том самом столе, за которым мы сегодня ели. Дом занимал весь стол — на него уходило колод семь. Затем наступало мгновение торжества. Когда, дунув на него всего один раз, я разрушал все строение.