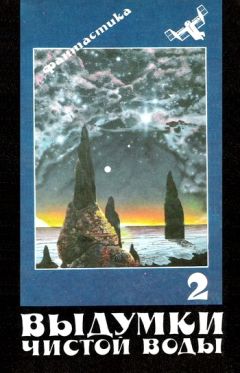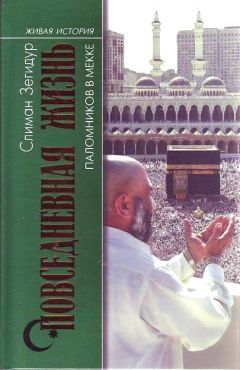— Тютчев не основной, но хороший поэт, — вставила Розалия Марковна.
— Мы не против поэтов, — сказал Наполеон, — если это не мешает программе… Николай Николаевич, мы тут хотели посоветоваться с вами…
Я напряжённо слушал.
— Как у вас эта ученица, э… — он обернулся к Розалии Марковне.
— Арсеньева, — подсказала та.
Будь славен, Котик. Ты меня предупредил. В ином случае я мог растеряться.
— Арсеньева? — я принял безмятежный вид. — Учится. В общем неплохо.
— Какие отметки?
— «Хорошо» в основном.
— А поведение?
— Тихая девочка. Незаметная.
— М-да. — Наполеон вновь принялся расхаживать по кабинету, — А вы знаете, что она ходит в церковь?
— В церковь? — безмятежность сменилась недоумением.
— Да, именно в церковь.
— Но где же тут церковь? Разве в городе есть?
— В деревне. Пять километров.
— Я и не знал. Зачем она ходит в церковь?
Наполеон высокомерно пожал плечами.
— В церковь ходят с разными целями. Я сам ходил.
— Ну, вы-то понятно. Вы изучали!
— Да нет, просто так. Интересно было.
Завуч нахмурил брови.
— Вы полагаете, можно тащиться за пять километров по грязной дороге потому лишь, что интересно?
— И в темноте! — воскликнула Розалия.
— Арсеньева верующая? — спросил я осторожно.
— Вот мы и хотели посоветоваться. — Завуч сунул ладонь в карман нового пиджака. — Вы ничего не замечали?
— В каком смысле?
— Из её интересов. Ну, может на уроке читала…
— Библию? — поинтересовался я.
— Необязательно Библию. Бывают книжечки. Картинки. Календари разные, инвалиды в поездах продают.
— Не замечал, — сказал я.
— В доме у неё, между прочим, висит икона.
— В доме я не бывал.
— Другие бывали. Вы, Николай Николаевич, педагог молодой, любопытный, могли бы проявить интерес к ученикам. Тем более что некоторые уже удостоились вашего внимания.
— Я знаю, Камсков.
— Но остальные в тени. Арсеньева, например, болела. Её посещали. Мы, кстати, выражали на педсовете мнение, что должен кто-то из педагогов… И кажется, выдвигали вас… А? Розалия Марковна?
— Мнение педсовета мне незнакомо, — ответил я. — С ребятами говорил. Интересовался здоровьем Арсеньевой. Но они сказали, что ходить к ней не стоит. Девочка замкнутая, с неровным характером. Со странностями вообще.
— Это мы знаем, — сказал Наполеон.
— Николай Николаевич, — вступила Розалия, — с Арсеньевой мы ещё в прошлом году намучились. Меня вовсе не удивило, что она замечена в церкви. Пусть странности, пусть характер. Но нам-то не легче!
— Вы знаете, скоро комиссия, — сказал Наполеон. — Не хватает ещё, чтобы нас обвинили в потакании мракобесью!
— Станет ли комиссия интересоваться какой-то Арсеньевой? — спросил я.
— Кто знает, — сказал Наполеон. — Короче говоря, Николай Николаевич, надо провести работу. Мы остановили выбор на вас. В прошлом году сами пробовали. И на педсовете, и так. Она повернулась и ушла.
— Хотели исключить! — воскликнула Розалия.
— Но родители далеко, ученица на нашей ответственности, — недовольно сказал Наполеон.
— Так, может, перевести её в другую школу? — нашёлся я.
— Исключено! — отрезал Наполеон. — Районный отдел не позволит, и школа не возьмёт. Какие мотивы? Воспитывали, воспитывали, а теперь избавляемся? Нет, будем воспитывать до конца.
— Но что я могу сделать?
— Почему выбрали вас? — сказал Наполеон. — У вас с ними общий язык.
— Ученики довольны! — пела своё Розалия.
— Вот вы используйте общий язык. Поговорите, узнайте, зачем ходит в церковь. Кто её подбивал. Может, она в секту попала. Помните, Розалия Марковна, в прошлом году сектантов судили?
— Сектанты в церковь не ходят, — сказал я уныло.
— Или другие мотивы. Не хватало нам мракобесия! Может, она молится каждый день! Комсомолка! Розалия Марковна, она комсомолка?
— Кажется, да.
— Вот! — вскричал завуч. — Это усугубляет! Поймаете, до чего мы дошли! Комсомолки посещают церковь! Да нас всех поувольняют за это! Короче, Николай Николаевич, нужно помочь коллективу.
— Чем? — спросил я.
— Я уже говорил. Надо выведать у Арсеньевой подноготную. Что это за безобразие, икона в доме?
— Покойной бабушки, — сообщила Розалия.
— Тем более! Она ведь не бабка? Икону снять. А вдруг комиссия захочет зайти? Вы знаете, что комиссии посещают семьи учеников?
— Господи! — Розалия всплеснула руками.
— Идите, Николай Николаевич, и подумайте. Надо спасать честь коллектива. Пока не поздно.
Я сделал шаг к двери. Остановился.
— Скажите, Иван Иванович, а откуда это известно?
— Что именно?
— Что Арсеньева ходит в церковь?
Наполеон поджал губы.
— Вы нам не верите?
— Просто неплохо бы знать, раз мне поручили.
— А вы, я вижу, принципиальный, — сказал Наполеон, помолчав. — Это хорошо. Но не в тех случаях, когда не доверяют старшим товарищам. Скажу вам только одно, нам известно! Вы не верите и сейчас?
Я вышел из кабинета с чувством омерзенья в душе.
Вернулась из Москвы Вера Петровна. Дела её мужа будто бы шли к успешному завершению. Осталось что-то кому-то подписать, что-то куда-то направить. Во всяком случае, обещали, что профессор Сабуров скоро вернётся к прежней работе. Вера Петровна выглядела усталой.
— Ну что тут новенького, Коля? — спросила она.
— Я как раз вам хотел задать этот вопрос. Всё-таки из столицы.
— Мне вглядываться было особенно некогда, целые дни хлопотала. Но атмосфера, конечно, не та, что три года назад. Все здороваются. Даже те, кого помню едва. Но поверьте, Коля, это приятно с одной стороны, с другой противно.
Я рассказал про встречу Поэта с маститым знакомцем.
— Вот, вот. Самое удивительное, что они совершенно искренни. И тогда, когда гонят, и тогда, когда возносят хвалу… Между прочим, столкнулась на улице с вашим предшественником, учителем Гладышевым. Незаметный какой-то. Едва поздоровался.
— Про него тут разные слухи ходят, — заметил я.
Вера Петровна кивнула.
— Не удивлюсь, если выяснится, что он был осведомителем. Повадки какие-то странные, въедливый глаз.
— Но ведь говорили, что он неплохо преподавал.
— Ну и что? Многие люди такого толка далеко не бездарны. А некоторые талантливы. Жизнь для них театр. Они могут играть разные роли, от дерзких авантюристов до провокаторов самого крупного масштаба.
— Вы думаете, Гладышев из таких?
— Бог его знает. Но я уже говорила, тёмная лошадка.
Пришёл Поэт, и я деликатно оставил его с хозяйкой, так как понял, что у них есть свои разговоры.
В классе уже знали. Маслов ходил со значительным видом, Гончарова скорей с возбуждённым, Камсков выглядел озадаченным и углублённым в себя.
А что же она? Она, казалось, не замечала, хотя мне было понятно, что тоже знает. И это выразилось по крайней мере в том, что, не сговариваясь, мы тотчас увели в подполье даже ту незримую связь, которая существовала меж нами. Мы разъединились, облегчая каждому собственную задачу, предоставляя, как говорят, простор для манёвра. А то, что предстоит схватка, понимали и я, и она.
Маслов попросил со мной встречи.
— Николай Николаевич, — сказал он, — мы, то есть комитет комсомола, знаем, что у вас поручение от дирекции. И мы, то есть комсомольцы, хотели бы скоординировать наши действия.
— Как ты важно говоришь. Толя, — заметил я.
— Вопрос требует, — сказал он, слегка насупившись.
— Ты, конечно, имеешь в виду историю с Арсеньевой? О какой координации речь?
— Мы ведь тоже заинтересованы, она наша соученица, — значительно произнёс Маслов.
— А раньше вы знали, что Арсеньева ходит в церковь? — спросил я.
— Я лично нет, — ответил он.
— А если бы да?
— Не понял, — сказал он.
— Если бы ты знал, что Арсеньева ходит в церковь, именно ты один, то как бы поступил?
Маслов нахмурился.
— Что гадать, Николай Николаевич. Факт есть факт. Про это узнали директор и комитет комсомола. Теперь мы должны принять меры.
— Какие же меры?
— Вот здесь мы и должны скоординировать. Вы по своей линии, мы по своей.
— У меня нет никакой линии, Толя, — сказал я. — Дирекция обеспокоена грядущим наездом комиссии. Мне, честно говоря, не совсем понятно, зачем комиссии какая-то ученица. Или тут кроется что-то ещё? Я говорю с тобой доверительно, Толя. В Москве у нас не считалось предосудительным наведываться в церковь. Я, например, сам ходил. На Пасху. Прекрасно поют. Да и вообще это культура, иконопись, зодчество.
— Это я понимаю, — согласился Маслов. — Но Арсеньева вряд ли…
— Откуда ты знаешь? Ты с ней говорил?
— Она не станет разговаривать на такие темы. С ней вообще говорить очень трудно.