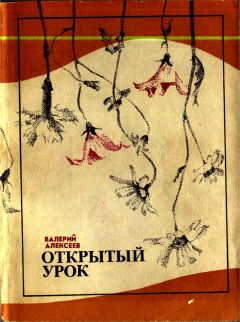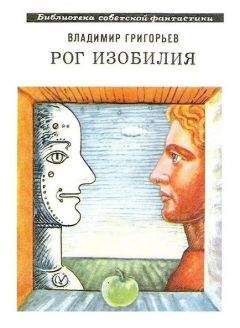– Бабушка умерла, – сказал папа и грустно улыбнулся.
Урна с прахом размером с двухлитровую банку стояла на журнальном столике, покрытом кружевной скатертью из клеёнки. К урне была прислонена фотография бабушки. Бабушка бодро смотрела на рюмку с коньяком, прикрытую печеньем – ставить водку с куском чёрного хлеба папа и Лета с отвращением отказались. Бабушку сожгли для раздвоения личности – семь лет назад, перед операцией по аортокоронарному шунтированию, она завещала, «если что случится», прикопать по горсти пепла в могилы обоих её мужей, «чтоб никому не было обидно». Старая журналистская гвардия, тихо переговариваясь, потопталась перед столиком, произнеся обычное: «Могла б еще пожить!», «Давно ли молодые были?», «Все там будем» и «Как время-то летит». Изучили фотографию, пришли к выводу, что на заднем плане, за бабушкиной спиной, кабинет в редакции газеты, в котором потом сидели стенографистки, а после сделали буфет. Перевели взгляды на урну.
– Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде! – с подъёмом продекламировал гвардеец в морально устаревшем галстуке и джемпере внука.
Сошлись на том, что в урне, безусловно – огонь и, стараясь не грохотать лакированными стульями и кухонными табуретами, но с заметным оживлением сели за стол, накрытый «на квартире».
Папа брезгливо отверг выражение «поминальный обед» и передёрнулся при слове «кутья», которое напоминало ему выродившийся и обнищавший народный промысел. Они оба не имели представления о ритуалах. Папа смутно помнил что-то про охапку еловых ветвей, гроб, три дня стоящий на столе, двери в квартиру нараспашку, оркестр возле парадного, конфеты и пшено для голубей на могиле. Но самый большой город Европы отринул народные традиции в угоду санэпиднадзору – родных хранили в холодильниках моргов, и больше не поминали блинами. Папа хотел как можно быстрее напоить журналистскую гвардию и отвязаться! Лета предложила приготовить для бабушкиных соратников мясной бульон с домашними пельменями и луком и подать блюдо в старинной фарфоровой супнице, на горячее. Но папа сказал:
– Обойдутся без супниц! Этим старым пьяницам лишь бы водка да закуска.
И привез из кулинарии готовые салаты в пластиковых ведрах и пакет вареного картофеля, присыпанного укропом, а из супермаркета – нашинкованный хлеб, лотки с мясной нарезкой и девять бутылок разнообразного спиртного.
– Не слишком много выпивки? – усомнилась в гвардии Лета.
– Погоди, еще за добавкой бежать придется. Старые алкаши!
– Сейчас говорят не старые, а возрастные, – поправила Лета.
– Упейтесь до потери памяти! – приговаривал папа, выставляя бутылки. – Скорее бы всё это кончилось!
Папа за что-то ненавидел бабушкину гвардию, одновременно крепкую и ветхую, как исподнее, но Лета не знала, за что. Сама она относилась к пожилым людям безразлично, как к грудным младенцам – и те, и другие существовали в ином, не её, мире, в невидимом придонном слое с районной поликлиникой, социальными картами, льготными лекарствами, доплатами и компенсациями. Ещё в школе она поняла, что чаепития с ветеранами труда накануне выборов и государственных праздников – лицемерие. И у Леты даже слегка защемило сердце при виде нетленной активистки, вручающей президенту вязаные носки, и его благодарности за «очень нужные предложения совета ветеранов» и «огромный опыт по воспитанию молодежи». Передача опыта затянулась, стала пыткой, и охранник президента тихо сказал в гарнитуру: «Гаси бабку!», после чего «встреча, к сожалению, подошла к концу».
Президент требовал от министров, чтобы пенсионеры как можно скорее умирали – прекращали получать пенсию и освобождали жилье. Для этого ветеранов «подлечивали» – погружали в хлорные ванны убогих профилакториев, напоминали о возрасте поздравительными открытками, вручали ключи от отечественных машин, чтобы было на чём ездить на том свете. Но пенсионеры упорно барствовали в приватизированных квартирах, создавали очереди в регистратурах, мешая диспансеризации населения, и, вопреки социальной поддержке, стояли у метро с пластиковыми стаканчиками в руках. Поэтому Лета давно решила: она ни за что не станет жить, будучи старухой – умирать надо молодой.
По бабушке она не плакала, потому что ещё не знала, что бабушка скончалась навсегда и они больше никогда в жизни не смогут увидеться. Урна с прахом волновала Лету не больше, чем цветочный горшок со старой землёй на балконе – ведь совершенно невозможно представить, что бабушка находится там, внутри. Как она могла туда поместиться – с туфлями, хриплым голосом и очками на цепочке? Лете казалось, бабушка вышла из дома, спустилась в метро и временно недоступна. Выкладывая хлеб из упаковки в плетёную сухарницу, Лета даже сказала себе: «Надо будет спросить у бабушки, почему папа так взъелся на её гвардию».
Гвардия уже позабыла, зачем собралась, и вполне обходилась без хозяев.
– Нет-нет-нет, за любовь – до дна!
– И вот вызывает меня замполит части и говорит: «Если вы будете носить такие короткие юбки, вас накажут – из ГДР вышлют в Союз!». А я ему отвечаю: «Не надо меня Родиной пугать!».
– За это надо выпить!
Папа мужественно «ухаживал за дамами», опорожняя бутылки.
Но, пылая злобой, схватил Лету за локоть и выскочил из-за стола, после того, как завалившаяся на диванную подушку гостья, выкрашенная, как отреставрированная усадьба, пьяно приказала хозяевам:
– Выше голову, молодежь! Нашу память не убьешь! Мы еще повоюем!
Лета вышла следом за папой, и теперь они вдвоём сидели на кухне. Лета положила на хлебную горбушку мясной обрезок, папа с бранью выловил из банки маринованный корнишон.
В комнате то вразвалку кричали: «Мы хотим, чтоб к штыку приравняли перо!», то нестройно пели: «Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой», наливали, вспоминали собственные статьи – яркие, острые, талантливые:
– А мое «Поле в голубой косынке»?! После него много кого поснимали! И по всей стране внедряли бригадный подряд и хозрасчёт.
– За это надо выпить!
– От ветров и водки хрипли наши глотки, но мы скажем тем, кто упрекнёт, – понеслось из комнаты. – С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулемётом!
По коридору, держась за стену, прошла, покачиваясь как ящерица, член союза журналистов СССР с 1972 года.
– Эта старая клюшка куда попёрлась? – сказал папа и закричал: – Вы куда?
– Где здесь дамская комната?
– Дальше, направо, дверь открыта, свет включён, – не вставая, заявил папа. – Ноги не ошпарь!
– Фу, папа! Ты должен проявлять сдержанность и мудрость.
В туалете загрохотало.
– Сейчас старая дура своротит бачок! – закипел папа.
Сдержанность, спокойствие, мудрость, праведность – любые завершённые, окончательные состояния души папа не принимал, целеустремлённо пребывая в вечной яростной погоне.
– Ребята, анекдот с картинками, – донеслось из комнаты, потянуло табачным дымом.
– Папа, а про свечку бабушка ничего не говорила?
– Ничего.
– А она не просила её отпевать или поминать, или что там ещё?
– Нет, не просила. Кого отпевать – нашу бабушку? Кто за это возьмётся? Если только какой-нибудь поп-расстрига.
– А ты когда-нибудь был на исповеди? – самая не зная, почему, спросила Лета.
– Зачем? – атеистическим голосом произнес папа, но вдруг смешался…
– Ну, церковь, отпущение грехов.
– Мне не в чем каяться! – отчаянно сказал папа, смял пустую коробку из-под виноградного сока и вскочил с табурета. – Чёрт возьми, долго они ещё будут жрать и пить?! Я их всех выволоку!
– Папа, прекрати! Они просто пожилые люди!
– Нет, они не пожилые люди, – папа оглянулся на дверь и наклонился к Лете. – Это старые, развратные бесы советской журналистики верхом на «жигулях».
– Почему на «жигулях»?
Папа не стал отвечать.
Он ринулся в комнату, набитую комками запахов от выпитого спиртного и съеденной корейской моркови с чесноком.
– Господа, у нас с дочерью был очень тяжёлый день. К сожалению, время нашей с вами встречи истекло. Предлагаю собираться, – безжалостно сказал папа. – Доставка до метро или к дому – за мой счет.
В комнате задвигали стульями.
– Давайте, ферзи, стоя, по последней, на ход ноги, – заявил гвардеец, гордившийся серией блистательных статей о шахматных боях. И все вразнобой закричали: – Е-два, е-четыре!
В туалете, наконец, зашумела вода, и вскоре в дверях кухни показалась журналистка в ортопедических сапогах и вязаном пончо.
Она бессмысленно посмотрела на Лету, но вдруг задумалась.
– Внучка? – распространяя табачный запах, спросила журналистка, автор заметок о советской педагогике.