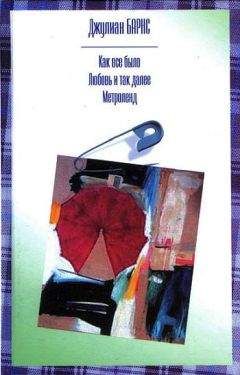Разумеется, ничего там не было. В квартире все было так, как я оставил, когда уходил. Я упорно выискивал знаки, что Анник приходила сюда, пока меня не было: может, она что-то сдвинула или переложила — в общем, оставила хотя бы какое-то напоминание о себе. Но она не приходила. Сигарета, которую она не докурила за завтраком, так и лежала у нее на тарелке, смятая и переломленная у фильтра. Должно же было остаться хоть что-то, за чем ей бы пришлось вернуться. Но ничего такого не было. Все, что Анник брала с собой, когда оставалась у меня ночевать, умещалось в ее дамской сумочке. И все же она забрала свой ключ — и это могло означать, что она вернется.
В тот вечер я пошел в кино. На тот самый фильм Мелвила, на который мы собирались пойти вдвоем. То есть почти собрались пойти. Я задержался в фойе и пропустил первые девять минут начала, потом плюнул и пошел в зал. Но раздражение не перебило досаду от обманутых надежд. Я так и не смог насладиться фильмом.
Наутро она вернула мне ключ. Прислала по почте. Я тщательно проверил конверт. Но, кроме ключа, там не было ничего.
Я еще долго сидел, тупо глядя в пространство и думая об Анник. Насколько сильно я ее любил и любил ли вообще. Когда я был маленьким, моя седовласая, полногрудая и заботливая бабуля часто спрашивала у нас: «Как сильно вы любите бабушку?» И мы трое — все как один — широко разводили руки и отвечали: «Вот так».
Но разве можно измерить любовь? Она либо есть, либо нет. Это такая внутренняя уверенность… Тем более что все познается в сравнении — и если ты влюблен в первый раз, то откуда ты знаешь, любишь ты девушку или нет, если раньше ты не испытывал ничего подобного? Я мог бы сказать Анник, что люблю ее больше, чем мать. Я мог бы сказать ей, что из всех моих девушек она — самая лучшая в постели. Но это были бы пустые слова.
Ладно, так как быть с этим простым вопросом: любил я ее или нет?
Все зависит от того, что подразумевать под любовью. Где проходит граница между любовью и нелюбовью? В какой момент je t'aime bien превращается в je t'aime? Самый простой ответ: ты знаешь, когда ты влюблен, потому что когда ты влюблен, у тебя нет сомнений, любишь ты или нет, — точно так же, как если у тебя дома пожар, ты точно знаешь, что это пожар. Но вот в чем загвоздка: когда ты пытаешься описать состояние влюбленности, ты неизбежно впадаешь либо в тавтологию, либо в метафору. Когда ты влюблен, у тебя ощущение, как будто ты сейчас взлетишь… Или тебе просто кажется, что именно так должен чувствовать себя человек, который сейчас взлетит? Или ты убеждаешь себя, что ты должен чувствовать себя так, как будто сейчас взлетишь?
Неуверенность не означает отсутствия чувств — она означает только, что ты сомневаешься насчет терминологии (или, может быть, это было последствие моего разговора с Марион). Мне кажется, выбор слов так или иначе определяет чувства. Может, мне все же стоило сказать je t'aime (и кто упрекнул бы меня в том, что я говорю неправду)? Назвать — значит наполовину сделать.
Вот о чем я думал, сидя за кухонным столом и сжимая в руке ключ.
Вскорости я обнаружил, что размышления о семантике меня возбуждают.
Так что, может быть, я любил ее?
Разумеется, больше мы с ней не виделись.
Никогда.
Когда Анник ушла, я изыскал кучу предлогов, чтобы не видеться с mes amis anglais. Я вновь воспылал интересом — пусть и во многом притворным — к своим изысканиям в области театра. Каждый день я часами просиживал в Национальной библиотеке, рылся в архивах и аккуратно выписывал на карточки всю более или менее подходящую информацию. Информацию приходилось выуживать буквально по крупицам, но я честно работал, подчас руководствуясь только догадками, где искать материал; библиотечный каталог помогал слабо. Я не стремился к каким-то самостоятельным оригинальным выводам — я лишь собирал и синтезировал наблюдения и мнения других. Разумеется, так и было задумано изначально: выбрать тему, над которой не надо ломать себе голову, чтобы гарантированно обеспечить себе много-много свободного времени.
На самом деле я вернулся к той жизни, которую вел, когда только-только приехал в Париж. Я возобновил свои упражнения на развитие памяти и наблюдательности, которые в последнее время совсем забросил. С их помощью я написал цикл стихотворений в прозе, которые назвал «Парижская тоска»: урбанистические аллегории, язвительные зарисовки характеров, стихотворные строфы, похожие на смутные воспоминания, и абзацы прямых описаний без всяких прикрас, которые постепенно складывались в портрет города, человека и — кто знает? — быть может, чего-то еще. Что меня вдохновило, явствует уже из названия,[118] хотя это было не подражание и не пародия; скорее это был резонанс — основной литературный прием двадцатого века.
Я продолжал рисовать. Эти случайные зарисовки я мыслил как иллюстрации к «Парижской тоске», если когда-нибудь дело дойдет до публикации (не то чтобы я очень к этому стремился — я написал свою вещь, и она уже существовала независимо от того, знал о ней кто-нибудь или нет). Я ходил в кино — исключительно на серьезные фильмы. Когда я был с Анник, мы часто ходили в кино на достаточно непритязательные картины: какой-нибудь вестерн, или старый-престарый фильм, или последний фильм с Бельмондо. Теперь, когда я был один, мне хотелось чего-нибудь по-настоящему глубокого. Я обнаружил, что в одиночестве все воспринимается более осмысленно: ты замечаешь нюансы диалогов, ничем не смущаясь, а выходя из кинотеатра, спокойно перевариваешь увиденное, вместо того чтобы с ходу придумывать какие-то остроумные комментарии. Я стал покупать «Les Cahiers».
Я много читал; я начал готовить, экспериментировал с блюдами французской кухни; я взял напрокат автомобиль и съездил в Сесо и Венсен. В общем, я замечательно проводил время; но каждый раз, когда кто-то стучался ко мне в дверь, у меня замирало сердце и я думал: «Анник?»
Но нет — не она. Один раз это была соседка, которая спросила, нет ли у меня взаймы бутылочки минералки, потому что она забыла купить, а ей не хочется еще раз идти в магазин, снова спускаться по лестнице при ее ревматизме… один раз — мадам Ют. Она была очень недовольна, что ей пришлось подниматься на третий этаж, но мне звонили из Англии, и это могло быть срочно (она имела в виду, что у меня кто-то умер). Когда я взял трубку, отец тут же высказал мне свое недовольство, что ему пришлось ждать целых пять минут (мадам Ют явно не торопилась) и что счет будет астрономическим, но все равно, сынок, с днем рождения. Ага. А я совершенно забыл.
И еще один раз — поздно ночью, — за неделю до моего отъезда в Англию, в дверь опять постучали. Но это был другой стук. Даже не стук, а отрывок мелодии. Костяшки пальцев отбивали ритм, а кончики пальцев выводили мелодию, и все это сопровождалось вполне художественным свистом. В первый момент я запаниковал — решил, что меня пришли грабить какие-то меломаны, но потом я узнал «Боже, храни королеву»[119] и открыл дверь. Разумеется, это были они: Мики, Дейв и Марион. Марион стояла, прислонившись к перилам, — хорошенькая, молчаливая, с пытливым взглядом. Мики вытащил гребешок, обернутый papier de toilette,[120] и насвистел мне «Доброе старое время».[121] Дейв изображал из себя француза — так, как их представляют карикатуристы: вязаная кофта в сине-белую горизонтальную полоску, берет и тонкие усики, нарисованные жженой пробкой. Под мышкой он держал baguette[122] и в довершение ко всему жевал чеснок. Он шагнул вперед и расцеловал меня в обе щеки. Я едва не задохнулся от запаха чеснока, а хлеб уперся мне в живот.
— Бобби Чарльтон, Джекки Чарльтон, Coupe du Monde,[123] Боже, храни королеву.
Мики досвистел песенку до конца. Марион улыбнулась. Я тоже улыбнулся. Они, наверное, сами не поняли, что они сделали, но все было прощено. Мы завалились в квартиру, и я достал бутылку кальвадоса, чтобы отпраздновать. Марион продолжала внимательно наблюдать и улыбаться, а Дейв с Мики пустились в долгие пространные рассуждения:
— Может быть, он болел.
— Да нет, с виду вполне цветущий. Может, он был в депрессии.
— Mais il n'est pas boudeur.[124] Может, просто переработался.
— Или любовница его бросила.
Я взглянул на Марион.
— Вполне вероятно, — заключил Дейв.
Они исполнили первые такты «Спасибо, Боже» Мориса Шевалье, причем Дейв изображал скрипача, взяв вместо скрипки baguette.
Я улыбнулся, вроде бы соглашаясь.
Марион улыбнулась в ответ.
Бийанкур и пожар на Бирже: это о чем-нибудь говорит теперь? Спросите меня, что я делал в 1968 году, и я отвечу: работал над своим дипломом (обнаружив попутно малоизвестную переписку между Гюго и Колриджем о сущности поэтической драмы, которую я потом опубликовал в ежеквартальном журнале «Современный язык»); влюбился, пережил трагедию брошенного любовника; поднаторел во французском; написал сборник малых литературных форм и выпустил рукописное издание оного сборника в одном экземпляре; изрисовал пару альбомов; подружился с приятными людьми и встретил свою будущую жену.