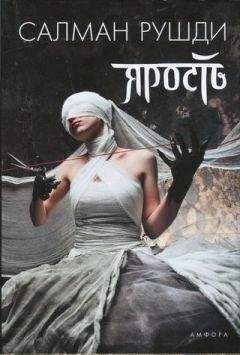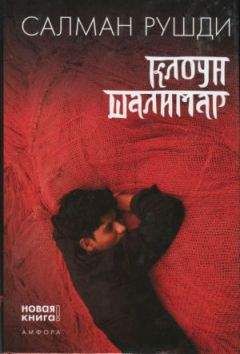Однако я увлекся сферой невидимого, измыслив автомат, торгующий стыдом. А весь неиспитый стыд как раз и уходит в сферу невидимого, но, очевидно, есть на свете несколько душ, чья нелегкая доля— служить помойным ведром, куда сливаются остатки расплескавшегося чужого стыда. Мы стараемся упрятать такие ведра подальше, стараемся не вспоминать о них, хотя благодаря им наша совесть чиста.
Итак, в присутствии родни слабоумная Суфия густо покраснела, а мать истолковала это так:
— Она нарочно, чтоб внимание привлечь! Знали б вы, скольких сил, скольких мучений мне это стоит! И все ради чего? Да просто так! Какая мне радость! Слава богу, у меня Благовесточка еще растет.
Но сколь бы слабоумной Суфия Зинобия ни казалась, всякий раз, когда мать косо смотрела на отца, дочка заливалась краской на глазах у всей семьи, и родные понимали, что меж супругами Хайдар зреет раздор. Да. Убогие души чувствуют немало. Вот так-то.
Краснеть — значит медленно гореть. Но не только. Еще это называется психосоматическим явлением и описывается так: «Внезапное перекрытие артериально-венозного анастомоза лица приводит к наполнению капилляров кровью и создает характерную интенсивную окраску. Те, кто не верит в психосоматические явления и в то, что душа непосредственно, через нервную систему, влияет на тело, пусть задумаются— почему люди краснеют, почему, вспомнив даже о давней оплошности (причем не о своей, а о чьей-то, больно ударившей), они заливаются краской стыда. Это ли не доказывает (причем убедительнейше), что душа главенствует над телом!»
Как и авторы вышеприведенной цитаты, наш герой Омар-Хайам Шакиль тоже врач. Более того, он тоже интересуется воздействием души на тело, например, поведением людей в гипнозе; фанатизмом шиитов, которые наносят себе во время шествий и молитв кровавые раны (Искандер Хараппа презрительно обозвал их клопами-кровососами); интересно Омар-Хайаму узнать и отчего люди краснеют. Очень-очень скоро сойдутся Суфия Зинобия и Омар-Хайам, больная и врач, в будущем — муж и жена. Иначе и быть не может. Ведь повесть моя не про что иное, как про любовь.
Рассказ о событиях сорокового года в жизни Искандера Хараппы следует начать с того, что он прознал, будто его двоюродный братец Миир-Меньшой добился расположения президента и вот-вот займет высокий пост. Как ошпаренный соскочил Искандер с постели, а Дюймовочка (ей-то принадлежала и постель и новость) даже не шелохнулась, хотя и поняла, что минута роковая! Иски потащил следом за собой и простыню, обнажив тело сорокатрехлетней красавицы; оно уже не источало чудесный свет, слепящий мужчин, — прошли те времена, когда мужчины, увидев Дюймовочку, забывали обо всем на свете.
— Да испоганится могила моей матери!—возопил Искандер Хараппа.—Сначала Хайдар в министры пролез, теперь этот! Нам к сорока катит, мы уже не в бирюльки играем!
«А жизнь-то тускнеть начинает»,—подхватила про себя Дюймовочка. Она по-прежнему лежала в постели и курила одиннадцатую сигарету подряд, а Искандер, завернувшись в простыню, вышагивал по комнате. Вот простыня соскользнула на пол, Дюймовочка принялась за двенадцатую сигарету, созерцая Иски во всей его красе. А тот все шагал и шагал, удаляясь от настоящего, устремляясь к будущему. Красавица уже овдовела — старый маршал Аурангзеб наконец-то переселился в мир иной,—и ее пирушки как-то потеряли значительность, а городские слухи она узнавала последней. Вдруг ни с того ни с сего Искандер сказал:
— На Олимпийских играх в Древней Греции за второе место не чествовали!
От неожиданности у Дюймовочки осыпался пепел с сигареты. А Искандер быстро, но как и подобает истинному щеголю, аккуратно оделся (эта черта так нравилась Дюймовочке) и покинул любовницу навсегда. Без каких-либо объяснений, если не считать последней реплики. За долгие годы последующего затворничества она все обдумала и поняла, что История давно поджидала, когда ж Искандер Хараппа обратит на нее взгляд, ну, а всякий, кого приманит эта кокотка, не находит потом сил ее бросить. История — это и есть естественный отбор. Разные виды и подвиды прошлого отчаянно борются за власть. Появляются виды (то бишь толкования) новые, и старые истины, подобно ящерам, вымирают, или их с завязанными глазами ставят к стенке, разрешая напоследок выкурить сигарету. Выживают сильнейшие. А от слабых, побежденных и безымянных, остаются лишь жалкие следы: маршальские регалии, отрубленные головы, легенды, разбитые кувшины, могильные холмы да блеклые воспоминания о молодости и красоте. История любит тех, кто властвует над нею, она же и обращает их в рабов! Вот такая взаимозависимость. И для всяких там Дюймовочек в Истории места нет, равно и для подобных Омар-Хайаму Шакилю (это уже мнение Искандера Хараппы).
А новоявленных триумфаторов и грядущих олимпийских чемпионов ждут трудные и напряженнейшие тренировки. Оставив любовницу, Искандер Хараппа поклялся бросить и все прочие вредные привычки — все, что могло бы подорвать его боевой дух. Его дочь Арджу-манд вовек не забудет, что отец в ту пору бросил играть в покер, в железку, его больше не видели в определенных домах за рулеткой, он потерял интерес к тотализатору и скачкам, отказался от французской кухни, опиума и снотворных таблеток. Более того, он перестал шарить под сверкающими серебром банкетными столиками в поисках егозливой коленки или податливого бедра какой-нибудь светской дивы; он перестал ходить к шлюхам — их томные и циничные забавы (либо с ним, либо с Омар-Хайамом, либо меж собой по двое, а то и по трое) он еще недавно так любил запечатлевать своей любительской кинокамерой. Да, в ту пору начиналась его, ставшая легендой, политическая карьера, вершиной которой явилась победа над самой Смертью. Пока же его успехи скромнее — он лишь побеждает свои страсти и страстишки. Он изъял из своих публичных «городских» обращений обширный репертуар забористых деревенских ругательств, энциклопедическими познаниями которых обладал — прежде от его громоподобных проклятий хрустальные бокалы выпрыгивали из самых мужественных рук и разбивались вдребезги, еще не долетев до пола. (Однако, выступая перед деревенской аудиторией, сражаясь за их голоса в предвыборной кампании, Искандер пускал в ход испытанное оружие и воздух прямо-таки раскалялся от более чем крепких выражений.) А куда подевался его беспечный смех? Капризные, высокие нотки в голосе бывшего повесы сменились уверенным басовитым рокотком, как и подобает истинному государственному деятелю. Даже к служанкам в собственном городском доме он и то перестал приставать.
Разве кто иной жертвовал стольким ради своего народа?!
Хараппу не видели больше ни на петушиных боях, ни на медвежьих потехах, ни на схватках змей с мангустами. Забыл он дорогу и на дискотеки, и к главному киноцензору, где раз в месяц ему показывали специально подобранные наисмачнейшие кадры, вырезанные из новых зарубежных фильмов.
А еще он решил расстаться с Омар-Хайамом Шакилем и так говорил привратнику:
— Заявится этот ублюдок, ты ему на жирную задницу кипятку плескани, чтоб он полетал кувырком!
Сам же Хараппа удалился в белую с золотом спальню, убранную в стиле рококо,—самое прохладное место у него в особняке (эта бетонная глыбина с кирпичной облицовкой напоминала телефункенов-ский проигрыватель с приподнятой крышкой). В спальне Хараппа буквально впал в транс, предавшись размыслительному самоуглублению.
На удивление, его закадычный друг и не наведывался, и даже не звонил. Лишь через сорок дней доктору Шакилю довелось удостовериться в переменах, произошедших в доселе беспечном и бесстыдном приятеле…
А кто это там у ног отца-повесы, в то время как его любовница Дюймовочка тихо увядает в своем пустом доме? То Арджуманд Хараппа; ей уже тринадцать лет, на лице написано полное довольство. Скрестив ноги, сидит она на мраморном полу в вычурной спальне и следит за тем, как ее отец внутренне перерождается. К Арджуманд еще не прилипло мерзкое прозвище Кованые Трусы, от которого ей не отделаться всю жизнь. Скороспелым своим умом она знала, что под личиной отца сокрыт совсем другой человек, он все растет, набирается сил и вот-вот вырвется наружу, а былая, теперь уже ненужная личина старой змеиной кожей шурша упадет на пол, где ее испепелят безжалостные солнечные лучи.
Не нарадуется Арджуманд, глядя на чудесное перерождение, — наконец-то у нее будет достойный отец!
— Это из-за меня,—объясняет она отцу.—Мне так хотелось, чтоб ты переменился, и ты наконец мое желание почувствовал.
Хараппа улыбается дочери, гладит ее по голове.
— Да, такое порой случается.
— И чтоб никаких больше дядей Омаров, — добавляет дочь. — Сорную траву с поля вон!
Арджуманд Хараппа, она же Кованые Трусы, всю жизнь будет бросаться из крайности в крайность. Уже в тринадцать лет она обнаружила дар ненавидеть, хотя умела и подольститься. Ненавидела она Шакиля, эту жирную образину, — сел отцу на шею и вдавил того в самую грязь; ненавидела она и мать: Рани тихо жила в далеком Мохенджо, как крот в норе, и представлялась дочке воплощением неудачницы. Арджуманд уговорила отца, дескать, учиться и жить ей лучше в городе. Потому-то и почитала она отца без меры: разве что не молилась на него. И вот теперь ее божество и впрямь стало достойно поклонения. И Арджуманд не скрывала радости: