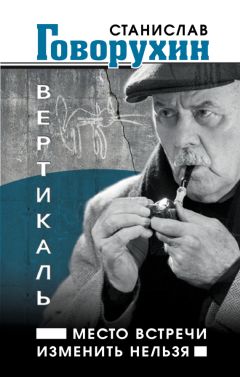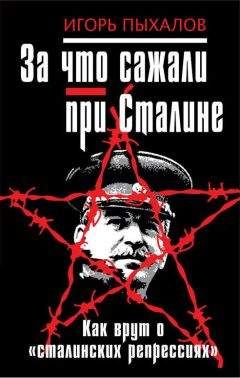Просыпались мы от петушиного крика. О петухе стоит рассказать особо. Однажды в Батуми, где вместо обещанного грузинами солнца зарядил на неделю дождь — и такой же мрак повис над всем Кавказским и Крымским побережьем, — в группе воцарилось уныние. В съемочных группах всегда так: если нет ежедневной тяжелой работы, нет и настоящего веселья. В одно из воскресений Леша Чардынин, наш оператор, надел «болонью» — тогда эти плащи были в большой моде — и ушел на базар. Вернулся он без «болоньи», мокрый насквозь, но зато на плече у него сидел роскошный петух. Смотреть на петуха сбежался весь пароход. Такого петуха никто из нас, российских жителей, никогда не видел. Огромный, царственно важный, с живым, осмысленным взглядом. Все цвета радуги были в его оперении. Ярко-красный гребень, рыжий бок, малахитовая шея, павлиний хвост с черными, фиолетовыми и зелеными перьями. Обедал он теперь только на столе, за которым сидели могикане — Крючков, Андреев. Расхаживал по белой крахмальной скатерти, клевал кашу из тарелки Никафо. Поклюет кашки, потычет горбатым клювом в масло, опять — кашки и снова — в масло. Вот такой умный был петух — сразу сообразил, что кашу маслом не испортишь.
Петух быстро поправил нам настроение. А там и солнце пробилось. И снова пошли съемки. Поселили петуха в темной каптерке нашей буфетчицы. И каждое утро, где мы ни были — в порту или в открытом море, — мы просыпались от радостного, жизнеутверждающего петушиного крика.
Ах, как мы жили тогда! Другой такой экспедиции уж точно никогда не будет. И какие же мы были дураки, что не записывали за Андреевым! Мы с Костей Ершовым, киевским актером и режиссером, уже тогда понимали, что совершаем преступление, допуская улетать по ветру замечательным мыслям и прекрасным остротам. Впрочем, Костя что-то там царапал в записной книжке… Но Костя умер. А я ленился.
Все казалось, что жизнь вечна, и Андреев вечен, и что не с одним еще таким Андреевым сведет судьба. А сейчас выясняется, что интересных-то людей, по-настоящему интересных, таких, как Андреев, или, скажем, Высоцкий, которые встретились на твоем пути, по пальцам можно пересчитать. Одной руки, пожалуй, хватит.
И вот теперь многое, очень многое, почти все забылось.
Говорил Андреев мало. Но если уж он что-то произносил, то это бывало услышано всеми. И не потому, что громко (говорил он действительно громко — тяжелым, рокочущим басом), а потому, что весомо. Пустых слов не произносил. И длинных периодов не переносил. Выражал свою мысль в самой лаконичной форме. И вообще был склонен к афористическому мышлению. Но об этом я расскажу отдельно.
И острил он первоклассно. Всегда неожиданно, по-андреевски.
Идет по палубе мимо массовки. Мрачный, даже страшный — для тех, кто его не знает. Вдруг навис над девчушкой из массовки. А девчушка попалась совсем маленького росточка. Рявкает на нее:
— Ты что бунтуешь? — Девчушка перепуганно смотрит на него. — Расти отказываешься!
Потрепал обалдевшую от страха девчонку по голове, угостил семечками:
— Подсолнух — это как раз то, что надо для роста. Видала, в какую высоту он вымахивает…
Как-то собрались они с Костей Ершовым на Привоз, знаменитый одесский базар. Борис Федорович, надо заметить, очень любил базары. Всякие. Любил покупать всякую всячину. Прицениваться, торговаться, пробовать. Так вот, Андреев уже спустился, ждет Костю.
Появляется Костя. В плаще.
— Косточка, ты зачем плащ надел?
— А если дождь, Борис Федорович…
— А если метеорит? Всю жизнь в каске ходить…
В нашем фильме Андреев исполнял роль купца Грызлова. Одного из пассажиров парохода «Цесаревичъ». В сценарии роль была написана плохо. Русский купец, эдакая широкая душа, — истертый, как рубль, образ. Вообще говоря, этой роли в сценарии могло и не быть, сюжет с этого много бы не потерял. Андреева в эти годы снимали мало, поэтому он согласился, поставив режиссеру, то есть мне, условие: роль по ходу работы надо будет переделать.
В итоге он не оставил ни одной реплики, написанной сценаристом.
— Да не мог так русский человек выразиться, — говорил он мне. — Слишком интеллигентно, уныло… Он же из народа, Грызлов твой, с Волги. И я с Волги. Давай так скажу…
И придумывал свое, андреевское.
Придумывал он мастерски. Реплики были остроумные и всегда очень неожиданные.
Во время одного из дублей маленькая обезьянка спрыгивает с плеча дамы из массовки и взбегает по трапу на крыло капитанского мостика.
Андреев тут же кидает:
— Видите, сударыня, в наше время каждая мартышка к рулю управления лезет.
Правда, потом эта реплика очень не понравилась редакторам. Пришлось ее вырезать.
Я с ним боролся за каждую сценарную реплику — предчувствовал, что возникнут неприятности со сценаристом. Сценарист-то был маститый. Но он так и не произнес ни одной.
— Ну ты пойми, — убеждал он меня, — не будет он себя так вести, Грызлов-то наш. Он человек масштаба! Он ведь не только о себе, он и о ми-ро-зда-ни-и думает. Для него есть Бог и есть людишки.
Шторм, пожар, людишки кричат, волнуются, кто барахло спасает, кто шкуру свою поганую, а он молчит, смотрит и презирает всех. Он даже себе такую присказку придумал — вроде как бы жизненное кредо. Вот послушай, какой стишок наш Грызлов сочинил:
Безумно море, дни безумны…
Всегда спокойны люди умны.
Вот именно так: не «умные», что было бы гораздо грамотнее (что бы, казалось, стоило зарифмовать «умные — безумные»), а «умны». В таком повороте и юмора больше, и авторство купца больше угадывается.
Короче, посмотрел М. Блейман (а он и был автором экранизации) наш фильм, где все до точки было сделано по сценарию, кроме андреевской роли, и… снял свою фамилию с титров.
Обиделся.
Конечно, если судить строго, от андреевского вмешательства роль абсолютно хорошей не стала — для этого в изначальной драматургии не было никаких предпосылок. Но она стала яркой, полнокровной и уж отнюдь не банальной: тут что ни слово, что ни жест — новы и достаточно оригинальны. Небось сделай то же самое с ролью Качалов, сценарист бы смолчал, а то и порадовался. Но тут… Как? Какой-то Андреев… лапоть деревенский… с его небось тремя классами образования… посмел его, Блеймана, редактировать!
К нему многие так относились. А он был, повторяю, широко и глубоко образованным и по-настоящему, без «штучек», интеллигентным человеком.
Как-то я попросил его представить мою картину «Робинзон Крузо» на премьере в Доме кино. Он стал отнекиваться:
— Не люблю я эту публику. Не поймут они меня, — помолчал, добавил: — И я их никогда не пойму.
Он оказался прав. Говорил он, как всегда, с блеском — образно, художественно, чуть-чуть, может быть, литературно, с философскими, свойственными ему обобщениями. Слушали его невнимательно и снисходительно, что, на мой взгляд, хуже, чем если бы не слушали вовсе. «A-а, Андреев… — читалось в глазах. — Вчерашний день…» Как-то незаметно для Бориса Федоровича — а разве можно это заметить? — кинематограф заполнился людьми новыми — нигилистами, ниспровергателями, натурами «тонко организованными» и «непонятыми», для которых Андреев был не то чтобы анахронизмом, а как бы человеком не из их круга.
Мне вот пришло в голову такое сравнение.
В те шестидесятые годы высотные здания, построенные на закате сталинской эпохи, воспринимались как верх безвкусицы. Даже хрущевская пятиэтажка смотрелась элегантнее. Что уж говорить о многоэтажных коробках Нового Арбата. В глазах некоторой части публики они были пределом изящества.
Но прошли годы, и все встало на свои места. Сегодня московский пейзаж немыслим без «высоток». И чем больше вырастало вокруг них всякого дерьма, тем очевиднее становилась их целесообразность, тем более радовали они глаз своей добротностью, надежностью, ясностью архитектурной мысли.
Мне кажется, Андреев был таким несколько неуклюжим, но основательным высотным зданием среди модных железобетонных стандартных коробок.
Так что не было у Блеймана оснований обижаться на Андреева, тем более что Андреев обладал уникальным литературным даром. Жаль, что дар этот проявился так поздно. Впрочем, раньше он и не мог обнаружиться. Жанр, в котором он к концу жизни стал пробовать себя, требовал большого жизненного опыта, глубокого философского осмысления жизни.
Как-то я звоню ему.
— Приезжай, — говорит, — хочу тебе кое-что почитать.
Я знал, что он сочиняет — иногда что-то записывал на листочках. Однажды читал свой рассказ со сцены — какие-то картинки из детства и отрочества. Слушалось это очень хорошо.
Я уж собрался было ехать, но тут вспомнил: Володя Высоцкий просил познакомить. Я ему про Андреева рассказывал много, Володя смеялся — нравился ему Андреев в моих рассказах. Позвонил я Высоцкому, говорю: «Еду к Андрееву, хочешь, поедем вместе…»