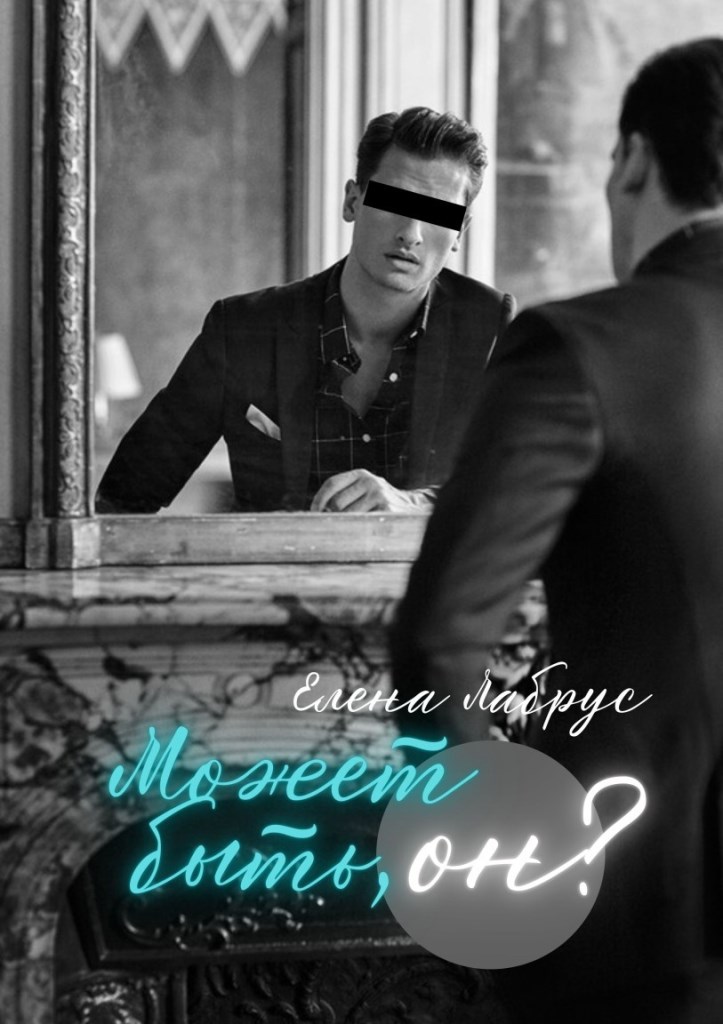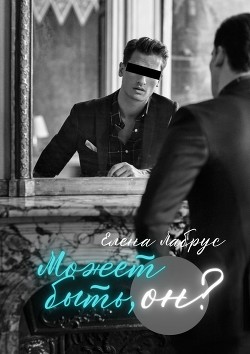Ты помнишь, какими веселыми были мы тогда, говоришь ты, держа в руке какую-нибудь старую фотографию, и не можешь понять, почему ваша судьба оказалась в кризисе после стольких счастливых дней. Ты забыл, что, устанавливая аппарат на съемку, ты поменял черты своего лица и на нем уже не видно тех бесчисленных страданий, которые вы причиняли друг другу в предшествующие часы и минуты.
Нет, никто сюда не придет, только те, кто ставит сюда на парковку свои дорогие машины. Только ты приходишь сюда и прочие, которые точно такие же, как ты; конечно, ты думаешь: да брось, моя жизнь — особенная, ведь живу ею именно я. Но ты ошибаешься, ошибаешься и в этом, как и во всем другом. Отсюда, из этих стандартных боксов, ты вовсе не выглядишь особенным, ты точно такой же, как все. Ты — совсем не единственный. Ты — это все.
Ты не знаешь, кто я, и напрасно показываешь пальцем, ты не знаешь, где я. Ты ни о ком не знаешь, кто он такой, как не знаешь и о себе, кто ты есть. Бесполезны самые современные психологические методы, курсы самопознания, микстуры и таблетки, улучшающие самочувствие, — дома ты только орешь, сейчас вот — на детей, а вообще на любого, кто попадется под руку, или угрюмо молчишь целыми днями, и все вокруг ждут в страхе: если ты вдруг заговоришь, то что скажешь, какое слово или фразу произнесешь и как громко. Ты ничего о себе не знаешь, вся твоя жизнь строится так, чтобы ты не попал туда, где находится ядро твоего бытия, потому что тебе страшно: вдруг окажется, что там нет ничего. И в самом деле, там — ничего, только инстинкты, ничего больше. А вокруг инстинктов — оборонительные укрепления, массивные стены, гигантские башни. Вот тут есть все: и гимн любви к ближнему, и технический прогресс, тут и семья как святыня, и родина как общий дом для всех, кто такой же, как ты, и частная собственность. Есть тут праведники, герои прошлого, полководцы, изобретатели, отыщутся и какие-нибудь мыслители с несчастной судьбой, которые дали тебе надежный рецепт, каким образом не добраться до ядра твоего бытия. Разработчики скорлупы ядра. Все они, разработчики скорлупы, все они тут, в тебе, а скорлупа эта — из такого прочного материала, что его не взорвать и самыми мощными адскими машинами. Ничего не могут с ним поделать ни хитроумные арабы, ни любые другие террористы с ядерными зарядами, контрабандой привезенными с Украины. На протяжении тысячелетий трудолюбивые руки без отдыха возводили эту цитадель, которая оберегает тебя от жизни как минимум на одну жизнь.
Ты не знаешь, кто я. Я — не тот, у кого вчера умерла мать, я не тот, кто убил свою мать и расчленил ее, а сердце бросил собакам. Матери у меня нет уже много лет. Я вычеркнул ее из своей жизни еще тогда, когда она настояла, чтобы квартира, в которой я жил, была записана на нее — чтобы быть уверенной в ее сохранности: как-никак она куплена на родительское наследство. Но я порвал с ней и освободился от нее на всю жизнь, чтобы она не пользовалась правом владения ни мной, ни моей квартирой. Нет, я не хотел, чтобы она вцепилась в меня: она ведь для того и хотела быть вписанной в договор, чтобы никогда не отпускать меня на волю, руки ее были словно багор, руки-багор, и я чувствовал, как холодное железо впивается в мою шею. Какое уж тут — погладит.
Нет, с матерью я уже много лет назад как расстался; если она умерла, я не был на ее похоронах, если еще жива, не пойду, когда умрет. Отца же у меня бог знает сколько времени нет, я уж едва помню, был ли он. После того случая, о котором я не рассказываю, потому что не хочу, чтобы кто-нибудь еще знал об этом, а для меня это уже ничего не значит, я, считай, о нем забыл. Помню только, что тот случай не помню. После того случая он попал в госпиталь, военный госпиталь, потому что был военным, и там ему рану в конце концов залечили. Из госпиталя он домой уже не вернулся, поселился где-то в другом месте, я так и не узнал где.
Но если бы он не исчез из семьи так рано, все равно бы его уже не было в живых, у мужчин это обычное дело. И напрасно феминистки причитают, что общество, где верховодят мужчины, угнетает их и вообще. Достаточно посмотреть статистику, чтобы стало ясно: все как раз наоборот. Средний возраст женщин далеко превосходит средний возраст мужчин. Если бы феминистки в самом деле победили, они утратили бы это преимущество, лишились бы возможности много лет наконец жить свободно, избавившись от мужей. Конечно, они ходили бы развлекаться во всякие злачные места, куда с мужем давно не ходили, поскольку мужу на все это сто раз наплевать. В печенках у него уже все эти культурные программы и способы проведения свободного времени, всякие встречи с друзьями, куда старые друзья приводят старых женщин, таких же, как твоя жена, а если случайно мелькнет какая-нибудь молодая цыпочка, к ней все мужики так и липнут, но ледяные взгляды и шипение старых жен в конце концов заставляют ее исчезнуть, и остаются все те же, физически и духовно изношенные женщины, ради которых уж точно нет смысла из кожи лезть. Выглядеть веселыми, остроумными, пускай даже умными — рядом с ними совершенно бесполезно, ведь у них и запах какой-то неприятный. Стоит наклониться поближе, и сразу ударит в нос этот запах старости, который смешивается с запахом дорогущих духов.
Но в конце концов ты умрешь, и женщина тогда сможет ходить туда, куда за десятилетия брака у тебя идти с надоевшей женой не было никакой охоты: стыдно было с ней показаться на людях. Ты считал, что выглядишь не такой уж развалиной, а она… Ты считал, не подходите вы друг другу, любому бросится в глаза разница в вашей внешности, и именно потому тебе бы еще полагался от жизни кое-какой бонус, хотя на самом деле ничего тебе не полагалось. Напрасно старался ты возмещать деньгами и жизненным опытом то, чего не хватало тебе как мужчине, — все равно ты никому не был нужен. От тебя тоже пахло старостью, и это сразу выдавало тебя; запах шел от твоей одежды, и не помогали современные стиральные машины, от этого запаха невозможно избавиться, он пропитывает собой все, и, когда ты наклоняешься к молодой женщине, чтобы с дерзкой ухмылкой попытаться ее покорить, ты слышишь лишь: идите отсюда, слышите, идите! И ты отходишь в сторону, как побитый, и по твоей походке чувствуется, какой у тебя позвоночник и какие колени, и уходишь ты в никуда, к смерти. А если все-таки встретится тебе на ярмарке человеческих отношений борющаяся с трудностями, не старая еще женщина, то, вслед за некоторым кратким периодом, когда твое представление о самом себе неожиданно меняется в лучшую сторону, когда ты вдруг обнаруживаешь, что продавцы в супермаркете и кассирша в кинотеатре обращаются к тебе на «ты», — вслед за этим кратким проблеском бабьего лета твое представление о себе быстро и необратимо рушится, и рядом с молодой женщиной ты очень скоро начинаешь опять чувствовать, что ты — стар, непоправимо стар. Старые у тебя мысли, старые у тебя воспоминания, в них, в этих воспоминаниях, брезжат времена, когда эта женщина еще и не родилась, значительная часть твоей жизни для нее — будто какой-нибудь исторический роман, «Звезды Эгера» или «Сыновья человека с каменным сердцем» [13], романы эти она в свое время читала или, по крайней мере, листала, потому что они входили в список обязательной литературы для чтения.
Ты — далекое прошлое с его неправдоподобными историями, черно-белыми фильмами, забытыми звездами старых кинокартин, дешевым хлебом и пивом. Старая у тебя кожа, руки — сплошь в морщинах, рядом с молодой женщиной ты переживаешь как раз противоположное тому, что переживал рядом с другой женщиной. Ты плачешься, вечно жалуешься, предсказываешь для вас обоих мрачное будущее, когда ты станешь ожидающим смерти инвалидом с палкой, а женщина рядом с тобой будет блистать своей молодостью. Ты будешь рисовать мрачные картины до тех пор, пока женщина эта, которой и без того хватает в жизни проблем, не плюнет и не пошлет тебя подальше, не в силах больше выносить твое нытье и выслушивать рассуждения, есть ли у тебя шанс прожить еще какое-то время. И ты уберешься от нее туда же, куда убрался от женщины, твоей ровесницы.