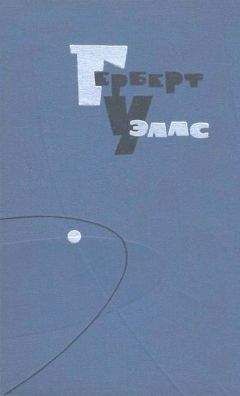В кафе вам следует прийти в указанное время и попросить столик, забронированный на ваше имя. Как только официант примет заказ и отойдет, нужно распаковать диск, вынуть его из коробки, вставить в плеер, надеть наушники и нажать на пульте управления кнопку “play”. Дальнейшие инструкции записаны на диске.
ЧАСТЬ VII
Из кармана кресла свесилась дорожная карта.
“Тульская область”, “Тульская область”. Я машинально перечитал надпись.
“Что такое „Тульская область”?”
Водитель обернулся, замки на дверях щелкнули.
Я вылез из машины. С наслаждением почувствовал, как кровь приливает к лицу и что осенний воздух приятно холодит затекшую шею.
На фасаде потрескивала и мигала неоновая вывеска. Одной буквы не хватало, и слово читалось как “Т…рист”.
Отраженные в стеклах, буквы шли задом наперед. Блики лежали на крышах машин. В полумраке белели цифры номера на кузове. Виднелась клумба-покрышка, выкрашенная в цвета флага.
Гостиница просыпалась. То и дело чавкала и дребезжала дверь, сквозь стекло сочился мертвенный свет. В одном из номеров на этаже истошно трезвонил телефон.
— Эй! — Из машины посигналили.
Рюкзак лежал на кресле как большая красная кукла.
В коридорах хлопали двери, звук катился по лестнице (лифт не работал). Энергичные голоса перекликались в коридорах. Где-то в номерах гудел пылесос, хлестала в ванной вода. Сквозь шум доносилась музыка и голоса дикторов.
Я убрал деньги и документы в карман. Планировка номера стандартная — узкий коридор, слева шкафы, справа ванная. Ковер со следами от окурков. Пластиковый цветок на подоконнике. Следы от горячих кружек на полировке напоминают олимпийские кольца.
Одеяло покалывало кожу через одежду. Я машинально пересчитал цифры инвентарного номера на плафоне.
На двери висела схема эвакуации, глаза автоматически побежали по строчкам. Имена ответственных по этажу; названия и телефоны служб; условные обозначения и адреса — перечитывание казенных, безликих фраз доставляло мне удовольствие.
Тюлевые занавески отвердели от пыли и липли к пальцам. Из окна открывался вид на крыши квартала. Между пятиэтажек торчали желтые купы кленов, и от этого контраста — яркой листвы и облезлого бетона — хотелось насвистывать, напевать песенки.
На горизонте лежал дым теплоэлектростанции. Еще дальше торчала игла Останкинской башни. Новостроек видно не было. Утреннее солнце, пробиваясь сквозь вальки туч, заливало кварталы театральным каким-то светом. Но многие участки сцены по-прежнему лежали в полумраке.
Воды в ванной не было. Я приложил к лицу вафельное полотенце. Отнял.
Телефон! Уже минуту в комнате надрывается телефон, а я не слышу!
— Администрация, доброе! — зачастил женский голос. — Завтракать будете?
Я молчал.
— Что значит “не знаю”? — возмутилась. — Ваш завтрак оплачен, спускайтесь немедленно.
Пауза, треск. Грохот входной двери, голоса.
— Девятьсот пятый, вы что, оглохли?.. Да, и мне займи тоже! Вы слушаете? Столовая работает…
Я положил трубку, изолента, перехватившая трещину, нехотя отклеилась от ладони.
Трубка была мокрой от пота.
Женщина за соседним столом обвела зал невидящим взглядом.
Снова уткнулась в серый разворот утренней газеты.
Теперь над бумагой торчал только пучок волос.
Подошла официантка, положила на стол конверт. Не сказав ни слова, ушла. Бумага хрустнула, разошлась. Я достал тетрадный лист, исписанный девичьим почерком. Обычный городской адрес — какой-то проезд, дом и корпус. Где, в какой части Москвы?
Надо смотреть на карте.
— Посуду Пушкин убирать будет?
Из амбразуры высунулось густо накрашенное лицо в белом колпаке.
Когда посудомойка говорила, кончик колпака подрагивал.
Я кивнул, вернулся.
Поднос торжественно поплыл по транспортеру в мойку.
Автобуса не было, от нетерпения люди переминались, чиркали спичками. Поднимали глаза на расписание. Вскидывали запястье, снова смотрели на картонку.
— Как хотят, так и работают. — Усатая тетка катала туда-сюда сумку.
Два-три человека равнодушно подняли на нее глаза и тут же опустили.
Девушка в дутой куртке перевернула страницу. Ее губы шевелились, она считала буквы кроссворда.
— Ца’ёв! — громко прокартавила. — Угадала!
Мужик в шапке-петушке отнял от уха транзистор, удивленно окинул взглядом остановку и приложил снова. На светофоре показался автобус.
— Только закуришь — сразу приехал. — С досадой выдохнул дым.
Сигарета упала, закатилась под лавку.
Машина прошла поворот, осела на бок и остановилась. Двери лязгнули. Расталкивая остальных, вперед ринулась тетка с тележкой. Чтобы не испачкаться, люди расступились.
Девушка с кроссвордом залезла последней.
Мотор натужно загудел, фасады за окном стали набирать скорость. Газетный киоск, урны. Выбитые стекла телефонной будки. Трубка висит на проводе и качается (или это автобус качается?). Следом в окно вкатилась квасная бочка. Ее покрышки были давно спущены, а на пупырчатых крыльях лежали листья.
Несколько секунд вровень с автобусом бежала школьница. Банты и ранец смешно подпрыгивали в такт. Сначала ранец, потом банты. Ранец — банты. Ранец — банты.
Народ теснился, пропуская кондуктора. Баба с шалью на пояснице, позвякивая мелочью, отматывала билеты. Люди равнодушно считали цифры и прятали билеты.
“Счастливый!” — долетал детский голос.
“Папа, счастливый!”
Машина вышла на круг, снова осела на правый бок.
Пассажиры послушно, как карандаши в стакане, наклонились.
— Метро, вы спрашивали, — буркнул кто-то.
“Ты можешь убежать, исчезнуть. Не нужно подходить к постовому. Кричать, звать на помощь. Просто скинь лямки, выброси рюкзак в урну. Все, ты свободен. Не будь наивным, ты прекрасно понимаешь, что внутри. Какое задание тебе предстоит выполнить. Не-е-ет, только бежать. Бежать! Пока никто не следит — спрятаться в родном городе. Уйти к своим, залечь на дно. Вспомни, как ты мечтал, что бросишься, схватишь их в охапку. Обнимешь. Неужели ты боишься, что они забыли тебя? Неужели ты настолько не доверяешь им? Думаешь, что можно взять и похоронить человека? А если амнезия, потеря ориентации в пространстве? Да мало ли что могло произойти — ведь мы ничего не знаем о человеке, кроме того, как работает его оболочка. Как соединяются молекулы, сокращая мышечные ткани. Например, где сейчас этот парень — на светофоре с папкой? В кафе? В собственном детстве у ограды детского сада? В постели с любовницей? Там ли человек, где его тело? Вот ты — все время думаешь о женщине, которая осталась там. Из-за нее ты не можешь бросить рюкзак. Если не выполнить задание, с ней произойдет что-то плохое — так ты думаешь. Так говорит твоя совесть. А теперь спроси ее, что она говорит по другому поводу. Почему, например, ты не думаешь о своих? Забыл о них — ради той, которую, возможно, никогда не увидишь? Или: почему ты не вспоминаешь ту, что приходила к тебе — там, в доме с раздвоенным кипарисом? Может быть, все твои мучения — от того, что совесть просто молчит? Тебя одолевает чувство гигантской утраты — и там и тут. Но одновременно ты ощущаешь прилив жизни. Испытываешь полноту сил, чувство обретения. Хотя о каком обретении речь? Ведь у тебя ничего нет. Нигде нет. Ничего — кроме рюкзака вот этого проклятого и улицы, где ты его тащишь. Помнишь, ты все жаловался на внутренний голос? Что он говорил: это в тебе что-то изменилось, дало трещину. Что не в дурацкой осечке причина — а в тебе . Помнишь?
А что было дальше? Ты подумал, что можно вернуться. Отмотать пленку, заскочить в прошлую жизнь обратно. Но точка была пройдена, и ты оказался в другом времени. Сначала оно пугало тебя, казалось непонятным и страшным. Чужим. Гудело все время — помнишь? Излучало невыносимо яркий свет. А на самом деле это и было твое время. Обретенное тобой, заслуженное. Которое со временем, идущим снаружи — тусклым, слабым, — не имело ничего общего. А ты составлял расписания, строил графики. Заполнял ежедневники. Хотел убить в себе новое время, вернуть его в старое русло. Но твое время оказалось сильнее тебя. Тогда-то ты по-настоящему и запаниковал. Засуетился. Натворил глупостей. Потому что ты не понял главного. Что время, которое в тебе открылось, — это дар, а не наказание. Обретение, а не тупик. И ты упал, сорвался в пропасть. Провалился, как Алиса в свой колодец. С другой стороны — перед входом в сад всегда есть колодец. Не провалишься — не попадешь в сад, таково условие. Не женщину ты потерял, не жизнь. А свое старое время — сбросил как изношенную кожу.