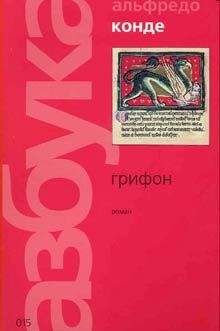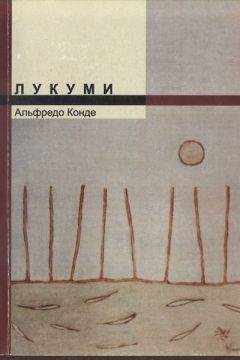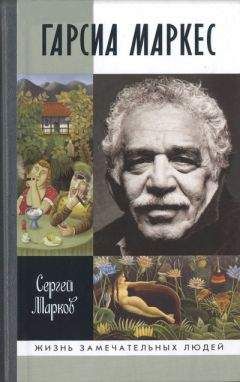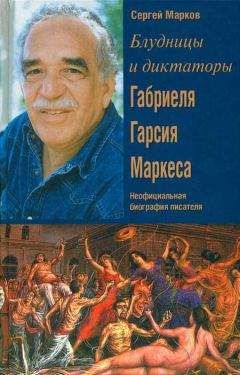Они медленно поднимаются от мельницы по крутому склону к еврейскому кварталу, расположенному у подножия замка. Когда они доходят до самого верха, последние теплые лучи солнца уходят за горизонт, озаряя золотистым, а может быть, багряным светом зеленоватые воды Арнойи.
* * *
Ранним утром поступает еще одна жалоба: Шенара да Вейга, дочь Шенары да Вейга, той самой, что просила исповедовать ее лишь перед самой смертью на всякий случай, поругалась со своим мужем, Педро Амейшейрасом, крестьянином из Гундиаса, выпивохой, потому что он не стал есть пустую похлебку из пастернака, в которой даже каштанов не было: такое варево мало кому по вкусу, и Педро до него совсем не охотник. А женушка заартачилась и давай кричать на него, да так, чтобы все слышали: «Караул, караул, помогите, муж меня избивает!» Но поскольку никто к ней на помощь не прибежал, она продолжала кричать в ярости: «Бедная я, несчастная, я в Господе разуверилась, я в Бога не верую, помогите, люди добрые, коли Бог защитить не может!» И тогда уже, после таких-то слов, какая-то соседка прибежала и заколотила в дверь, чтобы Шенара, дождавшись наконец свидетелей, почувствовала себя не такой уж несчастной. Шенара да Вейга откликнулась на зов и показалась в дверях. «Терпение и смирение!» — сказала ей соседка, скрестив руки поверх юбки, подол которой был поднят и завязан узлом, потому что она несла в нем только что срезанную молодую ботву. «Терпение и смирение во имя Господа Бога!» — снова изрекла наша добрая соседка, готовая стоять на том до последнего, сам Господь ее бы с места не сдвинул; в ответ на что Шенара да Вейга, истинная дочь своей матери, вольной женщины, крикнула: «Будь проклят Бог, если Ему ничего лучшего в голову не пришло, как сотворить женщину из ребра мужчины!…» Ах, Шенара, Шенара, вольная женщина, мужчина ведь есть мужчина, своего не упустит, и у Педриньо Амейшейраса немало подружек, с которыми он, считая себя свободным мужчиной, а их — свободными женщинами, хорошо ладит, и теперь этот обжора не упускает случая и доносит на тебя, горемыку. Посланец хорошо изучил свою страну: да, здесь верховодят женщины, но не стоит позволять им слишком уж о себе возомнить: женщина должна знать свое место. Дальше все пойдет как обычно: в воскресенье во время обедни надлежит зачитать приговор, и Шенара будет стоять на коленях на самой середине церкви; потом ее надлежит образумить и наставить на путь истинный; всю следующую неделю ей предстоит ежедневно читать молитву Деве Марии, и еще с нее возьмут девять монет штрафа; придется раскошелиться балбесу Амейшейрасу, что доставит ему одновременно и удовольствие, и огорчение, огорчение и неудовольствие.
Праздник окончен, и Посланец решает тем же утром выехать по направлению к Оуренсе. Прямо из Альяриса он пошлет донесение в Вальядолид, где расскажет о дожде, затопляющем эту страну, и о царящем в ней голоде, и о чуме, вспыхивающей то тут то там и делающей непроезжими дороги. Его ревматизм снова дает о себе знать, и он решает вернуться в Сантьяго. И все дождь и дождь! Посланец оставляет в Альярисе только секретаря и судебного исполнителя со слугами, чтобы они все доделали, подготовили и упаковали документы, а сам с Лоуренсо Педрейрой отправляется в Оуренсе. Он едет через Табоаделу и, проследовав долиной Барбаньи, минуя королевскую дорогу, прибывает в город ночью. В мастерской Васко Диаса Танко де Френегаля [79] собрался народ, чтобы поговорить о книгах.
Над этой историей, историей о Грифоне, над этой повестью о Грифоне, наш странствующий Профессор бился уже целый год, и сейчас он снова восстанавливал ее в памяти в своей холостяцкой квартирке на улице Прегунтойро, попутно размышляя о превратностях бытия, о быстротечности времени и, отчего бы и нет, о хрупкости его консистенции. По поводу этого слова, «консистенция», Мирей как-то сказала ему, что такое могло прийти в голову только галисийцу, после чего вся залилась румянцем. Писатель употребил это словцо по отношению к киви, экзотическому фрукту, консистенция которого как раз его и не устраивала, когда он клал его на язык. Он использовал выражение prendre de la consistance [80], смысл которого, в отличие от Мирей, он хорошо понимал. Сейчас, в этом уже не приходилось сомневаться, история Грифона оказалась сильнее его, он чувствовал себя побежденным. Разумеется, порой жизнь все же дарила ему приятные минуты; так, например, недавно, когда у него вышел естественным для таких случаев путем камень, образовавшийся, скорее всего, в его правой почке, у изголовья больничной постели писателя предстали целых пять его последних любовных побед. Чем не событие века, и он скромно и ненавязчиво гордился этим. В то же время жизнь никак не давала ему одолеть историю о Грифоне, внезапно возникшем — при том, что, откровенно говоря, писатель вовсе и не желал этого, — однажды поздним вечером вблизи серебристого фонтана, навсегда оставшегося запечатленным в его памяти; впрочем, он был совершенно убежден, что одного только воспоминания вовсе недостаточно для продолжения литературных фантазий, в которые он имел бесстыдство впутаться.
Не находя себе места, он вышел на улицу. Он тщательно запер дверь и спустился по лестнице, ступая с каким-то почти священным трепетом, связанным, быть может, с тем, что он наверняка знал: у выхода его ожидает встреча с дьявольским приютом всяческой галантереи и нижнего белья, где совершенно беззастенчиво выставлены напоказ всевозможные женские вещички, внушавшие ему шедший откуда-то из глубины веков страх; это было досадное напоминание, воскрешавшее в памяти пятидесятилетнего писателя не столько славные этапы его мужского бытия, сколько, напротив, периоды длительного застоя, которые весьма его беспокоили. В каком-то смысле это было похоже на климатические циклы, которые так обескураживают специалистов: дождь льет как из ведра, конец света, да и только, — даже в Англии такого не бывает; скоро на нас самих будут расти моллюски в самом укромном месте — этот эвфемизм он начал употреблять с недавнего времени, когда его стали приглашать в различные университеты вести семинары по литературе, а он использовал предоставленную возможность, чтобы дать выход всему тому, что подавлялось во время длительного застоя, предшествовавшего поездке. Так вот и получается: идет дождь — плохо, а не идет — еще хуже: за несколько лет, да еще при всеобщем использовании аэрозолей, земля превратится в пустыню, по ней будут бродить одни лишь верблюды или же — для полного счастья — польется кислотный дождь.
Выйдя на Прегунтойро, он взял немного вверх и налево, затем спустился по улице Шельмиреса к площади Платериас и остановился полюбоваться каменными лошадками, пасти которых все так же непрерывно извергали воду — как будто во всем мире не существовало ничего более приятного; что ж, может быть, так оно и есть. Он поднялся к площади Кинтана, немного постоял на площади Мертвых, прошел еще выше, к площади Живых, и задержался у часовни Кортисела посмотреть на решетки, которые по всему карнизу вокруг Креста Нищенствующих приказали установить члены капитула, уставшие от того, что парочки, накурившись травки или напившись какого-нибудь заморского зелья, ломали черепицу каждый раз, когда в дурмане лезли на часовню, чтобы заняться любовью прямо на крыше; сомнительное удовольствие — в зимнее время можно схватить солидный насморк. Постояв немного, он прошел через врата Скорби, сделал небольшой круг и снова спустился, уже от площади Сервантеса, вниз по Прегунтойро.
Он вошел к себе и сразу узнал знакомый запах, которым обычно пропитано жилище одинокого мужчины, привыкшего заботиться о чистоте тела, но мало беспокоящегося об опрятности своего обиталища. Он растянулся на диване, налив в стакан виски и включив музыку. Затем он взял книгу, которую оставил открытой на полу, и собрался читать. Но, прочитав совсем немного, почувствовал, что ему надоело, отложил книгу и вновь предался грезам, которые опять унесли его в Экс, в то недавнее прошлое, когда родился Грифон, вечная его мука.
* * *
Он прекрасно спал рядом с Мирей, может быть, оттого, что она не страдала полнотой и занимала мало места в его довольно узкой кровати, не отличавшейся излишествами, более подобающими молодым страстным парам, нежели спокойной, умиротворенной осени, в которую вступал наш приятель, а возможно, потому, что девушка совсем не вертелась, пребывая в состоянии полного изнеможения. Впрочем, вовсе не исключено, что наш знаменитый писатель был сам слишком утомлен и, как она ни вертелась, ничего не чувствовал, как не слышал он и кота, который, несмотря на то что лето было в полном разгаре, всю ночь бродил по дому прямо как в марте.
Проснувшись утром, он, едва открыв глаза, нащупал пачку сигарет и закурил, говоря про себя что-то весьма малооригинальное, нечто вроде la fumйe me prend а la gorge[81], не испытывая при этом ни капли смущения. Затем он завернулся в простыни, традиционно не отличавшиеся той белизной, какую им следовало бы иметь, и спрятал в них свое стареющее тело, которого он уже начинал стыдиться. Он осознал это сравнительно недавно, всего несколько месяцев назад, и почувствовал меланхолию, которую, впрочем, счел не слишком уместной. Ощущение слабости, дряблости собственного тела влекло за собой не только определенный дискомфорт, некое беспокойство, недовольство собой, своей бренной земной оболочкой, но также и мизантропию, толкавшую его в пустоту безмолвия.