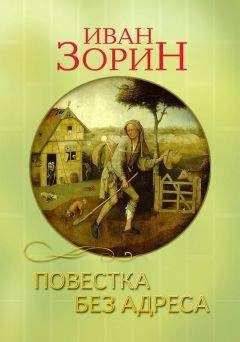В дверь постучали. У Брэдли работал звонок, но это был условленный знак — так приходила Франческа. Ему не хотелось открывать, но с улицы она наверняка разглядела свет, и Брэдли накинул халат.
Франческа была вне себя.
— Он мне всё рассказал! — закричала она с порога, и, захлопнув каблуком дверь, подпёрла спиной. — Что ты сделал с мальчишкой — тебе было мало меня?
Она задыхалась, глаза бешено сверкали.
Брэдли, не спеша, поправил в зеркале манжет.
— Ах, так! — подскочила Франческа. — Значит, добился своего, и — ладно? Пускай мальчишка не станет мужчиной?
Брэдли сухо поджал губы.
— Ты лжёшь! — выстрелил он, чётко разделяя слова. — Тебе его не жаль — ты ревнуешь…
Франческа осеклась.
— А может, и так… — вдруг успокоилась она, точно получила пощёчину. И сосредоточенно посмотрела на Брэдли. — У нас нет мужчин — только женщины… Но, думаешь, американцам всё можно?
Она быстро сунула руку в сумочку.
Защищая лицо, Брэдли выставил локоть, но в зеркале увидел кривой нож, который погружался в седую, волосатую грудь.
— Что это? — испуганно тряс за плечо Глеба Яценко бледный мужчина, протягивая коробок.
— След от спички, — спросонья ответил Глеб.
— А-а… — протянул мужчина. — А я думал — от этого… — он показал зажатый в ладони ключ. — Помню — чиркал им, а как — забыл…
Мужчина расплывается в беззубой ухмылке, у него текут слюни, и Яценко понимает, что попал в сумасшедший дом. Он видит зарешечённые окна, мордатых сиделок, которые, как фокусники, достают из рукавов шприцы, двери без ручек, коридоры без конца — мир, из которого не вырваться. Он чувствует, что, ещё не входя, уже пребывал в нём, а уйдя — останется. Он смотрит на идиота, который крутит ключом у виска, потом догадывается, что смотрит в зеркало, его глаза расширяются от ужаса, а уши ловят звяканье колокольчика.
«Нельзя ложиться на полный желудок! — доносится издалека. — Нельзя-зя-зя!»
Будильник дымится от звона. И Яценко просыпается окончательно.
«Жизнь не игра в жмурки — судьбу вокруг пальца не обведёшь», — переводит в нём ключ Яценко, в который раз перебирая свои годы.
Глеб не завёл семьи, не построил дома, не посадил дерева. Всё, что у него было, и он сам, принадлежало матери. Она лечилась от всех существующих болезней, держала его на коротком поводке, запирая сердце в аптечку.
«Я так одинока, — вздыхала она перед холодным, как ночь, телевизором. — Так одинока…»
«Как кошка без мышки», — думал Глеб, принося ей сердечные капли.
Ему сорок, у него тихий, как вода, голос и лысина с носовой платок. В школе его дразнили «Хлебом Яйценко»: он был пухлым мальчиком с румяными щеками и продолговатой, как дыня, головой. Учился он плохо, снося насмешки, не умея из всего извлекать корень и не понимая, зачем дана речь, если не с кем поговорить. Из школы он только и вынес, что жизнь, как и смерть, одна, а людей на свете — как слёз. В юности на него посматривали женщины, но мать отвадила всех. «Кому ты кроме меня нужен? — гладила она его волосы, когда очередная претендентка закрывала дверь. — Ты — мой крест!»
Глеб соглашался. И чувствовал себя стариком.
На работе он слыл неудачником. «Тебе презирать себя надо, — тыкал ему начальник. — Штаны протираешь, а всё без толку!» Его бы давно выставили, но мать, обивая пороги, умоляла войти в положение.
Конторские будни пережёвывали годы в мякину, Глеб ёрзал на стуле, а отпуск проводил в каком-нибудь Скучноводске или Тоскаморске. Возвращался он с расправленной грудью, но стоило прикрикнуть, как его плечи опускались, а руки начинали перекладывать бумаги.
И дни опять мелькали, как дорожные столбы.
— Ты заслужил свою участь! — как-то услышал он писклявый голос. — Ты прожил, ничего не испытав, ничего не попробовав!
И Глеб понял, что находится на Страшном суде.
Он открыл рот, но не смог подобрать слов, потому что все слова были уже сказаны.
— Ненавидишь ли ты себя? — цыкнули на него. — Испил ли до конца чашу жизни?
Глеб проглотил язык.
— Отправить обратно к матери! — определил ему писк всё той же канцелярской крысы.
Глеб боялся поднять голову.
Он так и проснулся — уткнувшись в подушку.
Вместе с силой отец забрал у Глеба судьбу, взвалив на плечи тяготы, пронёс сквозь войну, где смертей видел больше, чем жизней, оставив на его долю пресное, как сухарь, небо. Ему казалось, он искупил страдания сына, однако у страдания множество лиц.
Отец смеялся, словно веник ломал. «До Страшного суда ещё дожить надо!» — похлопал бы он по плечу Глеба, узнай про его сон.
Через четверть века после взрыва его добил осколок. Глеб целовал холодный лоб, идя за гробом, плакал, но отцовскую смерть пережил легко, как и все дети, в глубине души знающие, что смерти нет и воскресения нет, а есть одна, недоступная человеку, данность. Поэтому маленький Глеб скорее обижался, что отец ушёл, предоставив ему одному двигаться в тёмном коридоре, цепляясь за стены и дрожа от страха.
Сирота, как безногий, скачет на деревяшке, гадая, как бы всё сложилось, живи родитель. И такая жизнь представляется ему, как мир до грехопадения.
В ту ночь отец горбился в кресле, закинув ногу на ногу.
— Ты же умер, — удивился Глеб.
— Меня вылечили, — повернулся он. — Теперь я тебя не оставлю.
Раздался смех, в комнату вбежали дети.
— Мои внуки, — сказал отец. — Твои неродившиеся сыновья.
И Глеб понял, что он в раю, где всё сбывается.
Было воскресное утро, и он до обеда провалялся в кровати, вытирая концом простыни выступающие слёзы. А вечером пошёл в храм, ставил за отца свечу и, мелко крестясь, молился с деревянным лицом, не понимая, зачем родился и зачем умрёт.
«Зло прячется за добром, как темнота за иконой, — думал он, спускаясь по церковной лестнице, — идёшь к Богу, а за углом — сатана…»
Густели сумерки, ступеньки дробили его тень, которая впереди терялась в дрожащей листве. Рядом шли люди, одинаковые, как фонарные столбы. «Человек, как и Бог, один, — оглядывал он их. — А всякой твари по паре». И вдруг решил, что его сглазили.
— Да кому ты нужен! — выставила палец старая нищенка. — Тобой даже бес побрезгует!
Рядом строил рожи чумазый мальчишка.
— Раз, два, три — и вся религия, — ухмыльнулся он. — Сначала верили, что, меняя тело, живут вечно, потом надеялись на воскресение, а сейчас и вовсе не живут…
Глеб бросил монету. Старуха перехватила его руку, раскрыла своей, когтистой, как у птицы, и стала чертить по ней ногтем.
— Прежде чем пробудиться, нужно уснуть, прежде чем родиться — умереть, — ворожила она. — А ты, умирая во сне, будешь жить задом наперёд, зная своё завтра прежде, чем вчера…
Глеб выдернул ладонь и зашагал прочь.
— Будешь стреляться — не промахнись! — крикнул вслед маленький оборванец.
И Глеб нащупал в кармане игрушечный пистолет.
С тех пор у Глеба каждый сон был в руку: увидит ночью облако, похожее на акулу, — днём плывёт облако, похожее на акулу, увидит комара — укусит комар. Сны сбывались даже в новолуние, когда сон пустой. Теперь, чтобы узнать завтра, Глебу не нужно было ходить к цыганке, а на святки гадать. Чтобы исправить будущее, он записывал ночные кошмары, а бумагу сжигал. А иногда делился с матерью, надеясь, что рассказ вытеснит то, что уготовано. Просыпаясь, он долго смотрел в окно, а потом махал рукой: «Куда ночь, туда и сон!»
Но не помогали ни приметы, ни заговоры: сны сбывались с неизбежностью календаря.
Так Глеб стал себе пророком.
Теперь он заранее знал, когда гаркнет начальник, и от кого получит пощёчину. Однако изменить по-прежнему ничего не мог, разве вместо правой щеки подставлял левую. «Судьбу вокруг пальца не обведёшь…» Она нависала, как скала, угрожая раздавить своей тенью.
Глеб винил во всём возраст, полагая, что выпасть из своего поколения — всё равно, что выпасть из гнезда, его окружали люди моложе, которые обеими руками толкали свою судьбу, и чем ничтожнее они были, тем выше забирались по лестнице, ведущей в небо. Стоя у её основания, Яценко оставался чужим. Он чесал затылок, не понимая, зачем карабкаться вверх, чтобы, не оглядываясь по сторонам, упираться в чью-то спину.
Кому нужен мир, который не принадлежит никому? Кто устроил так, что каждый тащит на себя его драное одеяло? Если мир ничей, то, возможно, он принадлежит всем сразу? Может, воздух, небо и земля — только искры, а мы — только тени от непотухающего костра?
Раз после обеда его послали с бумагами в высокий кабинет, а он, потоптавшись под дверью, развернулся и приехал домой. И только здесь понял, что бросил работу. «Глебушка, ненаглядный! — обняла его мать. — Не волнуйся, как-нибудь проживём». Его переполнила радость, а сердце забилось с такой силой, что подушка упала на пол.