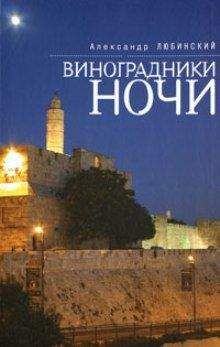Ей не сидится. Пока я ем, она стоит рядом. «Тебя что-то волнует?» «Я все время думаю… О папе, о нас… Все-таки он был очень жесткий человек… Я никогда не слышала от него хорошего слова. Может быть, он ревновал меня?» «Что ты!» «Да-да, ты не знаешь! Я давала поводы! А он — ни разу, понимаешь, ни разу не сказал мне ни слова…» «Так, может, наоборот, не ревновал?» «Нет-нет, он был настоящий мужчина и не снисходил до этого… Боже мой, как мне тяжело без него!» Она садится на край дивана, опускает голову. И снова вскидывается, и говорит, говорит. Ничто не прошло. Все осталось, пока существуют еще эта комната, эта мебель, фотографии на стене, пока эта женщина — один на один с невидимой тенью — все не может успокоиться, не понимает, и возмущается, и все-таки, прощает… А потом и ее не станет — я вынесу мебель, сниму фотографии со стены и сдам ключи коменданту.
…Жили на Петровке в пустой комнате, размерами напоминавшей залу. Возле одной из стен стояли диван и стол, возле другой — детская кроватка. В конце октября, в канун зимних холодов, шпаклевали щели двух огромных окон, глядевших в колодец двора, внизу которого первая наледь уже покрывала разломанную в щепы бочкотару.
Встав коленками на подоконник, она утрамбовывала ножом вату, а он доставал из упаковки и подавал ей белые хлопья. Во дворе кружили первые едва заметные мотыльки, и комната словно плыла в жемчужном прозрачном свете.
Ночами девочка беспокоилась, плакала. Надев байковый халатик, едва прикрывавший ноги, вставала, брала на руки, ходила по комнате, пока та не засыпала. Ложилась, прижималась к его плечу. Когда размыкали руки, сквозь серую пелену начинало проклевываться зимнее солнце…
Он открыл глаза. Прямо над головой — пыльная лампа на перекрученном проводе. Тарахтенье телеги за окном… Боже мой, почему все снится та комната — та же, и совсем другая? Чья-то другая жизнь… Ведь на самом деле в ту комнату вселили молодого милиционера с женой-продавщицей. Дверь все время была распахнута настежь, и неслась оттуда ругань вперемежку с женскими криками. Они жили напротив, в комнате ее матери-фельдшерицы, где у окна стоял дубовый стол с бочонками-ножками, а кровать их задвинули в угол, за платяной шкаф… Желтый фонарный свет едва пробивался в комнату, и кумач транспаранта плескал на ветру… Но ребенка не было. Никогда.
Встал, взглянул на часы, плеснул в лицо водой, поставил чайник на керосинку, Потом медленно пил, пока голова не стала прозрачно-ясной. Итак, первый рабочий день… И он надел лучшую рубаху, и брюки с широким ремнем, и вышел сквозь гулкую Агриппас на Яффо. Утро было прохладным, но в автобусе — душно от спресованных тел. Он встал у задней двери, и заглатывал воздух всякий раз, когда она открывалась. Возле Старого города народу поубавилось, а на Эмек Рефаим, где он вышел, автобус и вовсе опустел. Отсюда уже не больше десяти минут: через железнодорожный переезд и мимо тихих, с заколоченными окнами домов (выгнали англичане тамплиеров за их фанатичную любовь к своему фюреру) — к островерхому флигелю в окружении высоких сосен и кипарисов.
…Он дернул веревку колокольчика. Терпеливо подождал… Снова дернул… Поднял голову к стремительно гаснущему небу. Странное чувство, словно ты, здесь и сейчас, с ним — один на один.
Шорох, тонкий голос: «Кто это?» «Мне нужно поговорить с отцом Никодимом. Мы встречались с ним. Я тот, кто в доме отца Феодора передал ему бумаги. Он помнит меня». Снова шорох. Тишина… Маковка церкви погасла, и над крестом, вознесшимся во тьму, проступил узкий лунный серп.
Наконец, ворота приотворились с тягучим скрипом. «Проходите».
Проскользнул вовнутрь. «Сюда». По двору, заросшему острыми хватающими за брюки колючками, двинулся за проводником к одноэтажному строению, в двух окнах которого горел свет. Взошли на порог, остановились. Дробный стук в дверь. Приоткрылась — шагнул в блеклое сиянье… Лязг замка за спиной.
Марк огляделся. В дальнем конце пустой комнаты располагался внушительных размеров стол, за которым горел в углу огонек лампады, За столом сидел отец Никодим в рясе, с тяжелым серебряным крестом на груди. Провожатый — бледный длинноволосый монашек, указал гостю на табурет у стола. Еще один табурет стоял у стены. Марк сел, снял шляпу, положил на колени. Настоятель молча смотрел не него своими маленькими бесцветными глазками.
— Я пришел как друг, — проговорил Марк.
Не поворачивая головы, взглянул в сторону монашка — тот стоял у стены, сложив на груди руки.
— Я нуждаюсь в помощи, и, надеюсь, вы поможете мне.
Монашек придвинул ногою табурет, сел на него справа от Марка.
— Почему вы так думаете?
— Я могу быть вам полезен. Но мне нужно укрыться на несколько дней.
— От кого вы скрываетесь?
— Ну… — Марк тронул пиджак на груди — монашек дернулся, привстал… снова опустился на табурет. — От ваших соотечественников. Они преследуют меня… Наверно, думают, что я что-то знаю.
— Что?
— Если бы я сам это понимал!
Откинувшись на спинку стула, отец Никодим молча разглядывал Марка… Поднялся, прошелся по комнате, резко остановился…
— Вы их привели за собой?
— Нет-нет, я смог оторваться!
Железной хваткой настоятель вдруг схватил Марка за руки, а монашек, подскочив, задрал полу пиджака, выхватил из-за пояса Марка пистолет. Настоятель отпустил его руки и снова сел за стол.
— Разумеется, — проговорил Марк, растирая запястье, — вы можете меня убрать, и никто не узнает… Но зачем вам это? Я — единственная ниточка, связывающая вас с теми, с кем вам выгодней сотрудничать, а не конфронтовать.
— И вы пришли, чтобы сообщить нам об этом?
Монашек снова опустился на табурет, не выпуская пистолета из рук.
— Мне нужно переждать несколько дней в надежном тихом месте… Вот и всё! И мне нужна связь.
— А кофейня возле рынка не поможет?
Марк молчал, глядя в зарешеченное окно, где сквозь прутья торкались в стекло мохнатые ветви пихты.
— Так что же?
— С кофейней покончено… Мне нужно встретиться с одной девушкой. Она живет в том же дворе, где дом отца Феодора.
— А! Эта маленькая? Рыжая?
— Да. Ее зовут Герда. Пусть придет сюда… завтра вечером. Я буду ждать ее у ворот.
— Что ж… Будь по-вашему.
Отец Никодим откинулся на спинку стула; выпростав руку, махнул рукавом как крылом. Монашек поднялся.
— Он проводит вас в вашу комнату. А пистолет — в целях вашей же безопасности — пока побудет у нас.
Сколько проблем доставляет мне этот пистолет! Вот и сейчас — впился в бок, пока я сижу у ворот на своем пластмассовом стуле. А до конца смены еще далеко. Передвинуть чуть вперед, в направлении живота. И чтобы дуло достало до сиденья. Тогда не будет так давить. Вот так! И отвлечься. Давай, давай, подумай о ребенке, (пусть это будет мальчик) — он должен появиться на свет в этом доме поздней осенью 194… года. Если сподобился пережить все войны этой страны, ему уже примерно шестьдесят. Вон на террасе как раз сидит претендент на эту роль — рыхлый, в рубахе навыпуск и с вязаной кипой на лысой голове. Жует, невидяще глядя прямо перед собой. Он один. Пришел поесть мяса. Сколько хочет он может поесть, заплатив лишь сто шекелей — да еще сколько хочешь воды из-под крана, ведь за воду не надо платить.
Между тем Христя лежит пластом в своей каморке. Только что отошли воды. Дело интимное, но — нечего делать — настала пора сообщить об этом, нужна помощь. «Мина, — кричит она, — Мина!» А та сидит в плетеном кресле на террасе и читает книгу. Новомодный автор в таких красках рисует сексуальные похождения своего героя, что Мину переполняют отвращение и восторг, а соски твердеют, набухают, впиваются в легкую ткань. «Мина, Мина!», — кричит Христя. Она едва поднялась, доковыляла до двери, приоткрыла ее… Наконец-то Мина услышала. Встает, оправляет платье. Под легкий вздох и шуршанье страниц книга летит на стул…
«Где ты, сейчас, Рива? — думает Мина, спускаясь по узким ступеням в подвал. — И где ты, Залман? Почему всегда самая грязная работа достается мне»?
Она входит в комнату, где большую часть отведенного Христе пространства занимает кровать. Христя лежит на кровати, подняв колени, раздвинув ноги, обхватив обеими руками низ живота. «Воды отошли», — говорит она, обернув к Мине дрожащее, все в красных пятнах лицо. «Я позову доктора Каца!» — Мине не терпится уйти, но Христя выдыхает ей вслед «подожди!», и Мина замирает на пороге…
— Я не хочу доктора Каца! Отвези меня в Эйн-Карем[15], в монастырь…
— Но ты не доедешь!
— Все равно… Я хочу умереть…
— Перестань болтать глупости!
— Согрешила я, ой, как я согрешила…
Христя закрывает глаза; медленно-медленно сползает капля на горящую щеку.
— Я знаю, что умру.
— Надо какую-нибудь машину! Господи, и никого ведь нет!