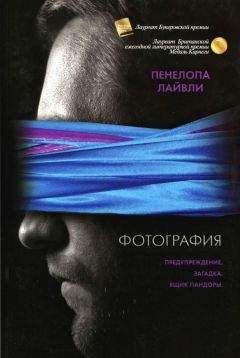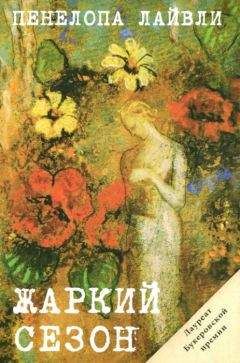Он вспоминает, как они стояли вокруг чего-то и он очутился возле Кэт. Очутился? Скорее сам подошел к ней. И не удержался от того, чтобы взять ее за руку — потянулся к ней и сжал ее пальцы, отведя руки назад, спрятав их за ее развевавшейся юбкой. Тайна и интимность этого прикосновения были волнительны и приятны, особенно волнительны оттого, что с ними как раз разговаривала Элейн; он чувствовал вину и в то же самое время радостное возбуждение. Все продлилось лишь несколько секунд, а потом пальцы Кэт выскользнули. Но Оливер выбрал именно этот момент, чтобы запечатлеть воспоминания о прогулке. Не нарочно — Ник в этом почти уверен, — тем не менее фатально.
Это нечестно. Элейн поступила неразумно. И не дала ему возможности это объяснить, растолковать, что надо бы посмотреть на все это с другой точки зрения. Он наказан совершенно несоразмерно преступлению.
А тогда вы об этом не подумали, произносит другой голос в его голове, противный, пошленький голосок. Думал ли он? Думали ли они? Ну да… если периодические приступы чувства вины и переживания считать за размышления.
Ты так увлекаешься, так проникаешься неизбежностью этого, что уже не в силах остановить процесс. Конечно, переживаешь, а иногда даже мучаешься. Но всегда, всегда было ощущение, что все будет хорошо, все наладится…
А Кэт? Что она?
Ник видит, что с Кэт уже не спросишь. Он все так же может видеть ее, слышать ее голос, но он понятия не имеет о том, о чем она думает, что чувствует… точнее, думала и чувствовала. Он испытывает раздражение: слушай, мы же занимались этим вдвоем, и это ты зачем-то сохранила тот дурацкий снимок и записку.
Зачем? Эта мысль вызывает в нем новое беспокойство, уже иного рода. Она сохранила фотографию потому, что была безалаберной, или же потому, что она что-то для нее значила? От этого Нику вдруг становится неуютно: он не хочет думать, что ее увлеченность оказалась большей, чем он привык думать. Временное помутнение рассудка — во всяком случае, с его стороны это было именно так, — совершенно непреодолимое влечение, но вскоре ему пришел конец, как и всем пылким увлечениям подобного толка.
И правда, от воспоминаний о прошлой страсти ему становится неуютно. В них нет ни спокойствия, ни тоски, но есть какое-то непонимание. Непонимание? Очевидно, да. Но теперь он рассматривает себя тогдашнего, точно существо с другой планеты. Слышит собственные слова — и ушам своим не верит. Как он говорит ей: «Я хочу тебя, господи, как же я тебя хочу».
Она пристально смотрит на него — и размышляет. Какие у нее прекрасные глаза! «Хочу… — произносит она. — Хочу…» И взгляд у нее не такой, как надо, ему хотелось бы видеть в ее глазах ответную страсть, а не этот вопрошающий взгляд. Внезапно он понимает, что сказать ему нечего. А что бы вы сказали на его месте?
О чем они тогда беседовали, он почти не помнит. Ну, по большей части говорил он, это уж точно: Ник первым признается, что он большой болтун. Тогда его прямо-таки переполняли всякие издательские прожекты, всегда было что-нибудь интересное и захватывающее, и он думал, что может привлечь и ее тоже. У него осталось впечатление, что Кэт слушала его — сидела напротив за столиком в каком-нибудь пабе и улыбалась, очевидно очень внимательно слушая. Да… и тут так некстати припирается этот Оливер, и Нику пришлось впоследствии перемолвиться с ним словечком.
«…потому, что ты — муж Элейн?» Нику это не нравится. Он предпочел бы не слышать этих слов, что сейчас отдаются рефреном в его голове, тоже мне, психолог-любитель Кэт — толку от ее размышлений, да и потом это не очень-то лестно, правда? И снова он слышит ее голос: «Когда я была моложе, я хотела быть Элейн. Больше всего я хотела стать такой, как она, — организованной, рассудительной, уверенной. — И слегка усмехнулась грустным смешком: — А она и не подозревала об этом».
«Может быть, я делаю это оттого, что все еще хочу быть Элейн, — говорит она. — Как ты думаешь?» Она смотрит на него; они сидят за столиком в том самом пабе, у нее — странное выражение лица. Но он ничего не думал — ни тогда, ни теперь.
Он немного возмущен Кэт: ее тоже должны обвинять, ведь не он же один виноват. Вместо этого она одно большое воспоминание, что складывается из сотен маленьких. Снова и снова она произносит одни и те же слова. И ему чудится: было в Кэт нечто недоступное для него даже тогда, когда она лежала рядом, в его объятиях, живая и теплая. Ты никогда не знал, как Кэт к тебе относится, даже когда она слушала тебя, смотрела на тебя, говорила с тобой — о, она любила поговорить, но сказать ей было особо нечего. Так, пустяки: была там-то, делала то-то. И всегда ускользала — внезапно опустевший стул, гудки в телефонной трубке, автомобиль, исчезающий за поворотом.
И конечно, в какой-то момент она ушла насовсем. Нику не хочется думать об этом, даже теперь.
Словом, так или иначе, от Кэт толку мало. И Элейн превратилась в другую женщину. Стала кем-то еще, неумолимой незнакомкой, осудившей его без права апелляции. В последние годы Нику пришлось стать осторожней — она стала сердиться на него по поводу и без, но это другое. Он видит ее, точно ставшее каменным, лицо в то утро, в оранжерее: «Я хочу, чтобы ты ушел».
Так нечестно. Он слишком стар, чтобы с ним так обращались. Стар? Стоило этому слову прийти на ум, его мучения лишь усилились. Да, он стареет. О, черт!
Элейн ощущает необыкновенный прилив сил. Она сделала правильный выбор, в этом она уверена. Она поступила так, как этого требовали обстоятельства. Невозможно представить, что Ник остался бы в доме, как будто ничего не произошло; каждый день она бы вспоминала об этой истории — всякий раз, когда она смотрела бы на него, всякий раз, когда он говорил бы с ней. Ну а теперь она спокойно может отдаться любимой работе — и через какое-то время все забудется. Она передумала — вместо того чтобы отдохнуть, пересмотреть график, — она станет работать больше. Даст окончательное согласие на поездку в Америку с курсом лекций, напишет новую книгу и непременно подаст заявку на участие в Хэмптонкортской выставке в следующем году.
Сегодня она выбирает лучший сад в одном из пригородов Лондона, где живут в основном люди состоятельные. Дело нелегкое — не столько по причине того, что приходится много ходить, сколько оттого, что от нее требуется сохранять дипломатичный нейтралитет. Вежливость и уклончивость, сдержанность реакции — нет, конечно, негромкое одобрение она выразить может, но увлекаться этим крайне нежелательно. Обладатели садов ходят за ней по пятам с приклеенными на лицах улыбками, сверлят ее лазерами глаз. Как бы им хотелось взглянуть на отметки, которые она делает в своем блокноте! Организаторы конкурса водят ее от сада к саду, всегда готовые защитить и прийти на помощь. Атмосфера мерзопакостная — дух соперничества ощущается прямо-таки физически. Мероприятие, по сути, благотворительное — многие из садов-участников можно будет посетить в эти выходные за умеренную плату, и собранные средства пойдут на что-то там, но пока благотворительностью и не пахнет.
Элейн проходит мимо розовых клумб. Замечает поврежденные лепестки на «Мадам Альфред Карьер», оценивает «Гималайский мускус Пола», едва не вздрагивает над кустами морально давно устаревших «Мир» и «Пикадилли», касается цветков «Кардинала Ришелье». Морщится при виде ярких соцветий герани, одобряет дицентру превосходную и синюху, сокрушается при виде ужасной фуксинового цвета лаватеры, отмечает неведомый ей доселе сорт хохлатки. Конечно, не учитывать собственные предпочтения очень трудно, но она пытается по достоинству оценить мастерство и смелость владельцев, пусть даже она выражается в сооружении хитрых конструкций из камней или опрометчивом выборе трав для газона. Каждый устраивает сад сообразно своим капризам и пристрастиям, и это видно, но заметно и то, что здешние хозяева частенько смотрят телепередачи по устройству сада. Водоемам здесь позавидовали бы и устроители висячих садов Семирамиды: ручейки, каналы, миниатюрные речные пороги, фонтаны, пруды. В наше время сад — это демонстрация современных достижений не только растениеводства, но и инженерии. Украшения садов также отличаются разнообразием и порой демонстрируют фантазию и изобретательность владельцев: тут хозяева щедро усыпали дорожки гравием, там привезли полный грузовик речного голыша, в одном из садов обнаруживается четырехметровый пластиковый тотемный столб, в другом среди кустарников виднеется гипсовый бюст какого-то древнеримского божества. Вдруг Элейн оказывается точно в ином времени — на прямоугольной лужайке, окруженной бордюром из однолетников; сопровождающие нервно поглядывают на нее с недовольными улыбками. Они спешат препроводить ее в дом по соседству, где ее ждет тщательно «запущенный» сад, где растущие в беспорядке маки, скабиозы, ромашки и таволга украшают конец участка длиной в пятнадцать метров.