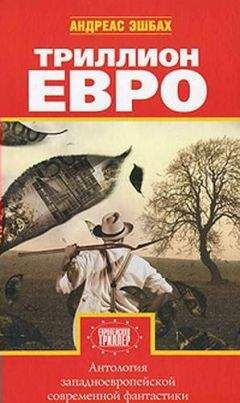– Дело не только в Чарли Фортнуме. Там ведь еще и его жена… она ждет ребенка. Если бы газеты это расписали…
– Да. Понимаю. Женщина, которая ждет, и прочее. Но, судя по тому, что писал о ней этот Хэмфрис, английская пресса вряд ли воспылает должными чувствами к даме, на которой женился Фортнум. Это не сюжет для семейного чтения. «Сан» может, конечно, описать все как есть или «Ньюс оф зе уорлд», но не думаю, чтобы это произвело нужный эффект.
– А что же вы предлагаете, сэр Генри?
– Только никогда и ни в коем случае на меня не ссылайтесь, слышите, Пларр? Министерство тут же спровадит меня на пенсию, если там узнают, что я дал подобный совет. Впрочем, я и сам ни на йоту не верю, что это нам поможет: Мейсон не тот человек.
– Какой Мейсон?
– Извините, я хотел сказать Фортнум.
– Да вы пока ничего и не посоветовали, сэр Генри.
– Я же вот к чему веду… Государственные учреждения больше всего ненавидят, когда лай поднимают приличные газеты. Единственный способ добиться какого бы то ни было вмешательства – это придать делу гласность, но такую, к которой прислушиваются. Если бы вы смогли организовать какой-то протест у себя в городе… Хотя бы обратиться по телеграфу в «Таймс» от имени Английского клуба. Отдавая дань… – он снова пощупал ручку, словно надеясь почерпнуть у нее нужную казенную фразу, – его неусыпным заботам об интересах Великобритании…
– Но у нас нет Английского клуба, сэр. И, по-моему, в городе, кроме Хэмфриса и меня, больше нет англичан.
Сэр Генри Белфрейдж кинул быстрый взгляд на пальцы (он куда-то задевал щеточку для ногтей) и что-то пробормотал так быстро, что доктор Пларр не сумел разобрать ни слова.
– Простите. Я не расслышал…
– Дорогой мой, неужели я должен вам это разжевывать? Немедленно образуйте Английский клуб и протелеграфируйте ваше ходатайство в «Таймс» и «Телеграф».
– Вы думаете, из этого что-нибудь выйдет?
– Не думаю, но попытка не пытка. Всегда найдется какой-нибудь член парламента от оппозиции, который на это клюнет, что бы там ни говорили лидеры его партии. И во всяком случае, это может доставить министру un mauvais quart d'heure [неприятные четверть часа (франц.)]. К тому же есть еще и американская пресса. Может статься, что они это перепечатают. А «Нью-Йорк таймс» умеет выражаться весьма ядовито. «Будем бороться за латиноамериканскую независимость до последнего англичанина!» Знаете, на какую позицию могут стать эти пацифисты? Надежда, конечно, мизерная. Если бы он был крупный делец, в нем были бы куда больше заинтересованы. Беда в том, Пларр, что Фортнум – такая мелкая сошка.
Самолета, на котором он мог вернуться на север, не было до вечера, а совесть не позволяла доктору Пларру придумать какой-нибудь предлог, чтобы избежать встречи с матерью. Он знал, как ей доставить удовольствие, и назначил по телефону свидание за чаем в «Ричмонде» на калье Флорида – ей были неприятны неизбежные разговоры на семейные темы дома, где она жила почти в такой же духоте, как и восковые цветы под стеклянным колпаком, купленные ею у антиквара рядом с «Харродзом». Ему всегда казалось, что у нее в квартире повсюду припрятаны маленькие секреты – на полках, на столах, даже под кушеткой, секреты, о которых она не хотела, чтобы он знал, скорее всего, просто свидетельства мелкого мотовства, на которое ушли полученные от него деньги. Пирожные с кремом – это хотя бы пища, а вот фарфоровый попугай – мотовство.
Он пробирался черепашьим шагом сквозь толпу, которая во вторую половину дня всегда заполняла узкую улицу, когда ее закрывали для проезда машин. Его это ничуть не огорчало – ведь каждая лишняя минута, потерянная для свидания с матерью, была его чистой прибылью.
Он увидел ее в дальнем углу набитого людьми кафе; она была во всем черном, и перед ней стояло блюдо с пирожными.
– Ты опоздал на десять минут, Эдуардо, – сказала она.
Сколько он себя помнил, он всегда разговаривал с матерью по-испански. Только с отцом он говорил по-английски, но отец был человек немногословный.
– Прости, мама. Ты могла начать без меня.
Когда он нагнулся, чтобы ее поцеловать, из ее чашки в нос ему ударил запах горячего шоколада, похожий на приторное дыхание могилы.
– Если тут нет пирожного, которое тебе нравится, позови официанта.
– Есть я ничего не хочу. Выпью кофе.
У нее были большие мешки под глазами, но доктор Пларр знал, что мешки эти не от горя, а от запоров. Ему казалось, что, если их нажать, оттуда брызнет крем, как из эклера. Ужас что делает время с красивыми женщинами. Мужчины иногда хорошеют с годами, женщины – почти никогда. Он подумал: нельзя любить женщину, которая меньше чем на двадцать лет моложе тебя. Тогда можно умереть раньше, чем слиняет ее образ. Фортнум, женившись на Кларе, вероятно, страховался от утраты иллюзий, она ведь на сорок лет моложе его. Доктор Пларр подумал, что он не так предусмотрителен, потому что на много лет переживет утрату ее очарования.
– Почему ты в трауре, мама? – спросил он. – Я никогда не видел тебя в черном.
– Я в трауре по твоему отцу, – сказала сеньора Пларр и стерла с пальцев шоколад бумажной салфеткой.
– Ты что-нибудь узнала?
– Нет, но отец Гальвао имел со мной серьезный разговор. Он сказал, что ради моего здоровья надо проститься с пустыми надеждами. А ты знаешь, Эдуардо, какой сегодня день?
Он тщетно рылся в памяти, потому что даже не помнил, какое сегодня число.
– Четырнадцатое? – спросил он.
– В этот день мы простились с твоим отцом в порту Асунсьона.
Интересно, узнал бы отец, войди он сейчас в кафе, эту толстую женщину с мешками под глазами и вымазанным кремом ртом? В нашей памяти люди, которых мы не видим, стареют достойно.
Сеньора Пларр сказала:
– Отец Гальвао утром отслужил мессу за упокой его души.
Она оглядела блюдо с пирожными и выбрала один из эклеров, по виду ничем не отличавшийся от других. Однако, когда Пларр напряг память, он все еще смог припомнить красивую женщину, которая плакала, лежа в каюте. В том возрасте слезы придавали блеск ее глазам. Под ними не было уродливых мешков.
– А я еще не потерял надежду, мама, – сказал он. – Ты же слышала, похитители назвали и его в списке узников, которых они требуют освободить.
– Какие похитители?
Он забыл, что она не читает газет.
– Ну, сейчас это чересчур долго рассказывать. – И добавил из вежливости: – Какое на тебе красивое платье.
– Я рада, что тебе нравится. Специально заказала для сегодняшней мессы. Материя совсем недорогая, а шила домашняя портниха… Ты не думай, что я транжирка.
– Что ты, мама!
– Если бы твой отец не был таким упрямым… Ну зачем ему надо было там оставаться, чтобы его убили? Мог продать поместье за хорошие деньги, и мы бы прекрасно жили здесь все вместе.
– Он был идеалистом, – сказал доктор Пларр.
– Идеалы – вещь достойная, но с его стороны было некрасиво в первую очередь не подумать о семье, это же такой эгоизм!
Он представил себе злые, полные упреков молитвы, которые она шептала утром, когда отец Гальвао служил заупокойную мессу. Отец Гальвао был иезуитом, португальцем, которого почему-то перевели сюда из Рио-де-Жанейро. Он пользовался большой популярностью у дам, может быть, они так охотно исповедовались ему потому, что он нездешний.
Отовсюду доносился женский щебет. Но отдельные фразы нельзя было разобрать. Казалось, Пларр сидит в вольере и прислушивается к разноголосице птиц из чужеземных стран. Одни чирикали по-английски, другие по-немецки, он расслышал даже французскую фразу, которая, наверное, пришлась бы по сердцу его матери: «Georges est tres coupable» [Жорж очень виноват (франц.)]. Он посмотрел на нее, пока она тянулась губами к шоколаду. Любила ли она когда-нибудь отца и его самого или же просто изображала любовь, как это делает Клара? За годы, пока он взрослел, живя рядом с матерью, Пларр научился презирать лицедейство. В его комнате теперь не хранилось никаких сентиментальных памяток, даже фотографий. Она была почти такой же голой и лишенной всякой лжи, как полицейская камера. И в любовных связях с женщинами он избегал театральных возгласов: «Я вас люблю». Его часто обвиняли в жестокости, хотя сам он считал себя просто старательным и точным диагностом. Если бы он хоть раз обнаружил у себя болезнь, которая не поддавалась другому определению, он не колеблясь признался бы: «Я люблю», однако же всегда мог приписать чувство, которое испытывает, совсем другому недугу – одиночеству, гордыне, физической потребности или даже простому любопытству.
Сеньора Пларр сказала:
– Он никогда не любил ни тебя, ни меня. Это был человек, который не знал, что такое любовь.
Ему хотелось задать ей вопрос всерьез: «А мы знаем?», но он понимал, что она воспримет его как упрек, а у него не было желания ее упрекать. С куда большим основанием он мог бы в подобном незнании упрекнуть самого себя. А может быть, думал он, она права, и я пошел в отца.