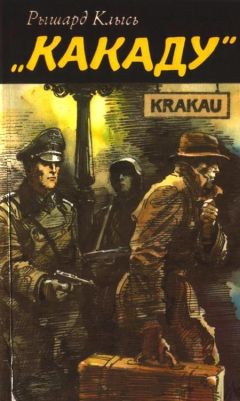Никогда я не страдал излишней самонадеянностью и всегда был начеку, настороженный и собранный, словно человек, судьба которого вот-вот решится, или игрок в покер, вытаскивающий из колоды свою последнюю карту, — я, коммивояжер смерти, для которого жизнь стала игрой, самой азартной из всех игр, какие я знал, а я любил ходить ва-банк и, даже проигрывая, не чувствовал себя побежденным, ибо твердо верил, что можно проиграть много битв, но нельзя проиграть войны.
Если б она знала, кем я был на самом деле, возможно, все бы сложилось иначе, но ведь ей известна была лишь одна сторона моей биографии, она знала, что я художник, а для художника весь смысл жизни — в искусстве. На первых порах ей казалось это занятным; обывательница с психологией лавочницы, она была даже польщена тем, что спит с художником, но потом, убедившись, что художники не лишены тех же человеческих слабостей, что и прочие смертные, и, вопреки ее ожиданиям, в них нет ничего необыкновенного, она, невзирая на свою несомненную интеллигентность и сообразительность, все же не сумела понять, что необычность бытия художника заключена не столько в его человеческих качествах, сколько в самом существе его дарования и повседневного профессионального труда. Придя наконец к выводу, что ее представления не соответствуют действительности, она даже не пыталась скрывать своего разочарования и злости, в какой-то мере чувствовала себя просто обманутой и в конце концов признала сам факт сожительства с мужчиной, для которого искусство было единственным и наиболее существенным содержанием всех его жизненных устремлений, слишком банальным, а может быть, даже и унизительным. Я нередко чувствовал, как ей недостает в моей биографии другого, героического плана, но упорно молчал и тщательно скрывал все, что могло бы меня разоблачить, я не считал для себя возможным покупать чувства женщины ценою всего того, что я уже испытал и что мне придется еще испытать, — ценою перенапряжения нервов, страха, пролитой крови и убийств.
Я не из тех, кто склонен забавляться любовью или оружием. На свете немало глупцов, которые погибают именно из-за такого рода забав. Но она не догадывалась, кто я на самом деле, как сложна и трудна моя жизнь, не понимала, пожалуй, также, каким беспредельно одиноким я себя чувствовал, не представляла себе, как тяжело мне в этом одиночестве сохранить веру в себя; я искал в ней дружбы и понимания, страстно желал, чтобы она стала свидетельницей моего творчества, рассчитывал на слово одобрения, на поддержку в моих усилиях что-то создать наперекор войне и смерти, но с каждым днем мы все больше отдалялись друг от друга, и, только когда наступил окончательный разрыв, я понял, как ей нужен был хотя бы отдаленный намек на мое участие в тех делах, которые я так тщательно от нее скрывал и, пока продолжалось бы в этой стране осадное положение и борьба, ни за что бы перед нею не раскрыл, — она все чаще издевалась надо мной, это было тем забавнее, что, ничего не ведая, она высказывала свои иронические замечания в комнате, где находился тайник, а в нем оружие и боеприпасы — тайник, к которому я обращался чуть ли не ежедневно, оружие, которым я так часто и с успехом пользовался.
Каждому расставанию сопутствует поначалу ощущение разочарования и пустоты; я чувствовал себя обманутым в собственных надеждах, и мне было совсем нелегко примириться с мыслью, что совместно прожитые с нею дни ушли безвозвратно, что ничего уже нельзя будет исправить и завершилась еще одна неудачная история в моей жизни, но теперь я думал об этом холодно и спокойно, а потом вдруг обнаружил, что во мне уже нет ни горечи, ни грусти, это показалось даже несколько странным, и на минуту пришла в голову мысль, что виной всему усталость и терзающая меня уже несколько часов лихорадка; со мной и в самом деле творилось что-то странное, нечто такое, чего я и сам не мог бы определить, может быть, просто сказывалось волнение — я все больше тревожился о Монтере, который не появлялся, а время условленной встречи медленно и неумолимо истекало, нагнетая напряжение и страх, подсовывая разгоряченному воображению картины самых ужасных событий, какие только могли произойти.
Не шелохнувшись, сидел я на стуле, опершись локтями на покрытый скатертью стол, в темной зарешеченной комнатке «Какаду» и сквозь разорванную лучом уличного фонаря тьму всматривался в стену, на которой в тяжелой позолоченной раме висело зеркало; на мое бледное и изнуренное лицо постепенно ложились темные тени, так что в конце концов можно было различить лишь его контуры и огонек торчащей в углу рта сигареты.
Я закрыл глаза, меня неумолимо клонило ко сну, в жарко натопленной комнате было душно, я сидел как бы отрезанный от всего мира, и сон наваливался на меня всей своей тяжестью. Но я не поддавался, боролся с дремотой, с собственной усталостью и считал каждую минуту, приближавшую меня к встрече с Монтером, однако неуверенность и страх за его судьбу нарастали с такой силой, что готовы были захлестнуть меня, словно волна, которую ты не в силах ни остановить, ни укротить.
«„Какаду“ — скверное место, — подумал я сквозь дремоту. — Если полиция что-нибудь пронюхала, дело дрянь, все мы можем оказаться в мерзкой ситуации».
Я положил на стол обе руки и опустил на них голову.
«Все это слишком затянулось, — думал я. — Монтер совершенно не считается с тем, что „Какаду“ далеко не лучшее место для такой встречи».
Я открыл глаза и взглянул на окно — на карнизе лежал толстый слой снега, стекла тоже были залеплены белым пухом и в темноте светились голубоватым блеском.
«Сочельник, — подумал я с грустью. — Именно сегодня. А я даже не знаю, выпутаюсь ли из этой истории. Слишком долго их нет. Монтеру уже пора бы прийти».
Где-то в глубине коридора хлопнула дверь, я поднял голову и прислушался. Сперва до меня донесся топот подкованных сапог и мужские голоса, потом в дверь моей комнаты несколько раз громыхнули — резко и неистово, словно хотели ее высадить, однако замок не поддавался.
Отодвинув стул, я тихо встал и двинулся к двери, чтобы открыть ее, хотел уже повернуть ключ в замке, как вдруг, пораженный, сообразил, что это не те, кого я ждал, ведь я не услышал условного сигнала.
Когда в дверь ударили вторично, я инстинктивно отскочил на середину комнаты и бросил взгляд на заслоненное грязной занавеской узкое и длинное заснеженное, надежно зарешеченное окно — и понял, что, если это ломится полиция, мне отсюда не выйти.
Я оказался в западне. Предусмотрительно отступив подальше в глубь комнаты, я прижался к самой стене, все время думая о том, что в меня могут попасть и через окно, может быть, они уже притаились под ним, ожидая лишь подходящего момента, чтоб открыть стрельбу, возможно, пока еще надеются, что я сам открою дверь, не стану защищаться и сдамся без боя; мысли об этом теснились в моей голове вместе с размышлениями о причинах, которые помешали Монтеру явиться в «Какаду» на условленную встречу. Его могли, конечно, арестовать, но все же трудно было поверить, что я попал в ловушку именно поэтому, я даже мысли не допускал, что он мог меня выдать, но тем не менее то, что сейчас происходило, было похоже на предательство.
Как можно осторожнее я пододвинул к себе стул — любой шум поможет им точно определить, где я, — и положил на него четыре запасные обоймы, чтобы в любой момент они были под рукой. За дверью на какое-то время воцарилась тишина, был слышен только испуганный голос хозяина «Какаду» и еще два других, приглушенных и неясных мужских голоса, но через минуту снова кто-то с ожесточением принялся ломиться в дверь, за которой я сидел как в ловушке. Я взглянул на часы — стрелки показывали семнадцать часов двадцать пять минут. Монтер должен был прийти в семнадцать, и, если его до сих пор нет по не зависящей от него причине, это ничего для меня не меняет, рано или поздно я все равно попаду к ним в руки, револьверная перестрелка может только предостеречь Монтера об опасности, но я вовсе не был уверен, что в этот момент Монтер не находится в таком же или в еще худшем положении. Его могли схватить во время перевозки груза, он мог обороняться во время облавы, по улицам городка все время кружили патрули, я видел, как на Вокзальной площади жандармы то и дело задерживали прохожих и обыскивали их; собственно, я и сам укрылся от них в «Какаду», поверив, что выбранное Монтером для встречи место безопасно и надежно.
Прислонившись спиной к стене и не выпуская из рук пистолета, я поглядывал то на дверь, то на ярко освещенное уличным фонарем окно. Неожиданно шум за дверью стих. Я переложил пистолет в левую руку, предварительно отведя предохранитель, а правую, мокрую от пота, вытер о штанину — ясно уже, что будет: они отойдут от двери и попытаются добраться до меня через окно. Я напряг всю свою волю, меня била нервная дрожь; облизав сухие, спекшиеся от температуры губы, я медленно, шаг за шагом, двигался вдоль стены к окну, а оказавшись возле него, чуть-чуть приоткрыл занавеску и осторожно выглянул на площадь.