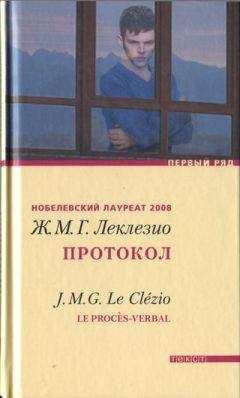Даже дети умеют ждать. Садятся возле бакалейной лавки и ждут, не кричат, не шалят. Время от времени один из них встает, заходит в лавку и взамен своих монеток получает там бутылку фанты или пригоршню мятных конфет. А другие только молча на него смотрят.
Бывают дни, когда ты сам не знаешь, куда идешь, сам не знаешь, что случится. Все выжидают чего-то, толпясь на улице или на обочине дороги; оборванные ребятишки ждут, когда пройдут большие голубые туристские автобусы или грузовики, которые развозят дизельное топливо, доски, цемент. Лалле хорошо знаком рев грузовиков. Иногда и она усаживается на выложенный недавно откос при въезде в Городок. Когда подъезжает грузовик, ребята все как один поворачивают голову в ту сторону, откуда тянется дорога.
Там далеко-далеко в дрожащем над асфальтом воздухе зыблются холмы. Шум мотора слышен задолго до того, как грузовик появится на дороге. Это пронзительный вой, почти переходящий в свист, время от времени прерываемый сигналом клаксона, который эхом раскатывается между стенами домов. Потом появляется облако пыли, желтое облако, к которому примешивается синий дым от мотора. И по гудронированной дороге на большой скорости мчится красный грузовик. Над кабинкой шофера труба, выбрасывающая синий дым, яркие солнечные блики играют на ветровом стекле и хромированных частях. Шины пожирают гудронированную дорогу, из-за ветра грузовик немного вихляет, и каждый раз, когда колеса прицепа вгрызаются в обочину дороги, к небу взлетает облако пыли. Пролетая мимо ребятишек, грузовик сигналит во всю мочь, земля содрогается под четырнадцатью черными шинами, машина обдает их своим жарким дыханием, смесью пыльного ветра и выхлопных газов.
А дети долго еще говорят о красном грузовике и рассказывают разные случаи про грузовики: красные грузовики, белые грузовики-цистерны и желтые грузовики-экскаваторы.
Так тянется время, когда люди чего-то ждут. Они часто ходят на дорогу к мосту и к морю взглянуть, как исчезают вдали те, кто не остается в этих краях, те, кто уезжает.
Некоторые дни кажутся особенно долгими, они длиннее других, потому что мучает голод. Лалле хорошо знакомы такие дни, когда в доме совсем нет денег, а Амме все еще не удалось найти работу в городе. Даже Селим Сусси, муж Аммы, не знает, где раздобыть денег, все вокруг мрачные, грустные, даже злые. Тогда Лалла по целым дням не возвращается домой, она уходит как можно дальше, на каменистую равнину, туда, где живут пастухи, и ищет Хартани.
Так бывает всегда: когда ей очень хочется его видеть, он вдруг обнаруживается в каком-нибудь укромном месте — сидит в своей белой чалме на камне. Стережет коз и овец. Лицо у него черное, руки худые и сильные, как у старика. Он делится с Лаллой черным хлебом и финиками, а иногда еще уделяет немного подошедшим пастухам. Делает он это просто, без всякого высокомерия, словно сделанное им сущая безделица.
Лалла внимательно вглядывается в пастуха, ей нравятся его невозмутимое лицо, орлиный профиль и свет, горящий в глубине темных глаз. Хартани тоже чего-то ждет, но, наверное, только он один из всех и знает чего. Он не говорит об этом, ведь ему незнаком язык людей. Но по взгляду его можно угадать, чего он ждет, чего ищет. Словно какая-то частица его самого осталась в том краю, где он родился, за каменными холмами и заснеженными горами, в необъятности пустыни, и настанет день, когда он наконец обретет эту частицу и станет полностью самим собой.
Целый день проводит Лалла с пастухом, однако не подходит к нему слишком близко. Она садится неподалеку от него на камень и смотрит прямо перед собой, смотрит на танцующий, мерцающий над иссушенной долиной воздух, на искрящиеся лучи белого солнца, на медленно бродящих среди белых камней овец и коз.
В такие печальные, тревожные дни с одним только Хартани и можно быть рядом, обходясь без слов. Довольно одного взгляда, и он поделится с тобой хлебом и финиками, ничего не требуя взамен. Он даже предпочитает, чтобы от него держались поодаль, в этом он похож на коз и овец, которые никогда никому не принадлежат вполне.
Целый день слушает Лалла перекличку пастухов на холмах, их свист, разрывающий белое безмолвие. И, когда потом она возвращается в Городок из досок и картона, ей дышится вольнее, пусть даже Амма ворчит, что она не принесла чего-нибудь поесть.
В один из таких дней Амма отвела Лаллу к хозяйке ковровой мастерской. Они отправились в город за реку, в квартал, населенный городской беднотой, к большому белому дому с узкими, забранными решеткой окнами. Войдя в комнату, служащую мастерской, Лалла слышит жужжание ткацких станков. Их здесь двадцать, а может, и больше, они стоят рядами в молочном сумраке большой комнаты, освещенной тремя мигающими неоновыми трубками. У станков на коленях или на табуретках сидят девочки. Они работают быстро, пропускают челнок между нитями основы, маленькими стальными ножницами состригают концы нитей, уплотняют шерстяные нити утка. Самой старшей, должно быть, лет четырнадцать, младшей на вид нет и восьми. Они не разговаривают между собой, даже не смотрят на Лаллу, которая входит в мастерскую вместе с Аммой и хозяйкой. Хозяйку зовут Зора, это крупная женщина в черном; в пухлых руках она всегда сжимает гибкий прут, которым бьет девочек по ногам и плечам, едва они замешкаются у станка или вздумают поболтать с соседкой.
— Ей уже приходилось ткать? — спрашивает хозяйка, даже не взглянув на Лаллу.
Амма отвечает, что когда-то показывала Лалле, как ткут ковры. Зора покачивает головой. Она кажется очень бледной, быть может, из-за черной одежды, а может, потому, что никогда не отлучается из своей мастерской. Она медленно подходит к свободному станку, где лежит большой темно-красный ковер, затканный белыми точками.
— Пусть кончит этот ковер, — объявляет хозяйка.
Лалла садится у станка и начинает ткать. Много часов подряд работает она в большой темной комнате, руки ее движутся как у автомата. Вначале она то и дело останавливается: у нее устают пальцы, но она все время чувствует на себе взгляд бледной толстухи и тотчас снова берется за работу. Она знает, что эта бледная женщина не станет ее бить, потому что Лалла старше других работниц. Когда взгляды их встречаются, у Лаллы словно что-то обрывается внутри и в глазах вспыхивает гнев. Но толстуха в черном вымещает злость на самых маленьких, худых и бледных, боязливых, как собачонки, дочерях нищих, девочках, брошенных родителями на произвол судьбы: они круглый год живут в доме Зоры, и денег им не платят. Стоит им замешкаться или шепотом перемолвиться словом, бледная толстуха с неожиданным проворством бросается к ним и стегает их по спине своим прутом. Но девочки никогда не плачут. Слышен только свист прута, рассекающего воздух, да глухой удар по спине. Лалла стискивает зубы, ниже наклоняет голову, чтобы не видеть и не слышать, ей хочется кричать и самой ударить Зору. Но она молчит, она ведь должна принести домой Амме деньги. Но, чтобы отомстить, она нарочно путает узор на красном ковре.
Однако на следующий день Лалла не выдерживает. Когда бледная толстуха начинает избивать Мину, худенькую и щупленькую девочку, которой едва минуло десять лет, за то, что у той сломался челнок, Лалла встает и спокойно заявляет:
— Перестаньте ее бить!
С минуту Зора, не понимая, смотрит на Лаллу. На ее жирном и бледном лице застыло такое ошеломленное выражение, что Лалла повторяет:
— Перестаньте ее бить!
Но внезапно лицо Зоры искажается гневом. Она изо всей силы хлещет прутом, целясь в лицо Лалле, но удар приходится по левому плечу, потому что Лалла сумела увернуться.
— Я тебе покажу, я еще и тебя исполосую! — кричит Зора, и лицо ее даже слегка розовеет.
— Брось! Ведьма! — Лалла выхватывает у Зоры прут и ломает его о колено.
Теперь лицо толстухи искажается страхом. Она отшатывается назад.
— Прочь! Убирайся! Сейчас же убирайся! — запинаясь, бормочет она.
А Лалла уже опрометью мчится через большую комнату, она выскакивает на улицу, на солнечный свет, и бежит не останавливаясь до самого дома Аммы. Как прекрасна свобода! Можно снова любоваться облаками, беспорядочно плывущими по небу, осами, вьющимися вокруг кучек отбросов, ящерицами, хамелеонами, травой, трепещущей на ветру. Лалла садится перед домом в тени дощатой стены и жадно ловит все, даже едва слышные звуки. К вечеру возвращается Амма.
— Я никогда больше не пойду к Зоре, — только и говорит Лалла.
Амма несколько мгновений глядит на нее, но не произносит ни слова.
Именно с этого дня и произошла настоящая перемена в жизни Лаллы. Словно она вдруг сразу повзрослела и люди стали ее замечать. Даже сыновья Аммы теперь держат себя иначе — не так грубо и презрительно, как прежде. Иногда Лалла даже немножко жалеет о том времени, когда она была совсем маленькой и приехала в Городок, когда никто не знал ее имени, когда она могла спрятаться за кустиком, в какой-нибудь бочке или картонной коробке. Ей нравилось быть подобием тени, приходить и уходить так, чтобы никто ее не видел, не говорил с ней.