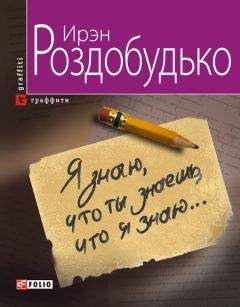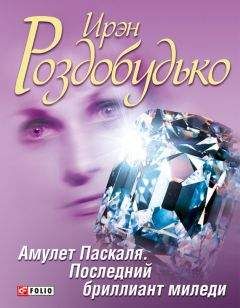Хорошо знаю эти интонации. «Налить чаю, дорогой?» – «Спасибо, достаточно, любимая…» – «Прекрасная погода, не так ли?» – «В воздухе пахнет весной…»
Я знаю…
Оксана… Типичная женщина на заработках, без особых примет, кроме одной: получать деньги и фанатично ежемесячно переводить их к себе на родину. Таких женщин всегда можно вычислить в любой, даже многотысячной толпе по одному признаку – у них окаменевшее выражение лица. Даже когда они улыбаются, глаза остаются сосредоточенными. Им все безразлично. В работе они могут абсолютно все и действуют умело и упорно, как роботы, у которых есть лишь одна цель: заработать и отправить домой деньги. Они готовы ворошить навоз, собирать клубнику с утра до ночи под палящим солнцем, ухаживать за неизлечимо больными, мыть, чистить и драить тысячи полов. И терпеть, терпеть, терпеть. Бесконечно и молча терпеть.
Собственно, это терпение ничем не отличается от того, что они переживали на своей родине. Из одного рабства они попадают в другое. Я расспрашивала Оксану о ее жизни – эта жизнь была сплошным терпением. Лишь в первые пару лет после замужества в ней ненадолго блеснула надежда на другое. Такие женщины существуют только в постколониальных странах и на Востоке. Их никто не жалеет. Их просто используют. Как по мне, это – величайший грех. Хоть и я не святая – плачу ей меньше, чем могла бы…
Максим поселился здесь последним. Пустила его из чистого любопытства: именно такого человека не хватало в моем «пасьянсе». С первого взгляда было понятно, что парень не простой.
Таким, как он, трудно смириться с миром, не покорив его. Им всегда необходимо двигаться быстро и в разных направлениях, будто запутывая следы, сбивая всех с толку.
Максим все время пишет. Свет в его комнате горит до утра. Сейчас таких фанатиков мало. А он фанатик, это точно…
В последнее время он ходит грустный, задумчивый. Мне кажется, я знаю почему – ему нужно двигаться. Двигаться дальше, а он застрял здесь, как в Бермудском треугольнике. Я знаю, атмосфера нашего городка расслабляет, она – для таких стариков, как я.
Молодым здесь делать нечего.
Я сказала ему об этом. Он глянул на меня мрачно и ответил, что не знает, куда двигаться, и добавил:
– Если вы не против, фрау Шульце, я сделаю на заднем дворе маленькое аутодафе.
– Что вы имеете в виду? – спросила я.
– Костер. Он будет гореть быстро. А потом я уберу. Попрошу Соню – она посадит там цветы…
Мне стало жаль его. Я поняла, что он собирается сжечь свои рукописи.
Конечно, я не разрешила. Ответила так, как в таких случаях может сказать старый человек – о том, что у него все еще впереди, и все такое.
Он улыбнулся и неожиданно спросил:
– Как ваше имя, фрау Шульце?
Он был единственным, кто спросил об этом.
Я позволила ему называть себя сокращенным именем – Лора.
– Лореляй? – уточнил он.
И процитировал строки из Гейне…
…Мой ковчег дал трещину после того, как мы отправили гроб с несчастной Оксаной на родину. Это событие прорвало скрытую плотину. И прорвалась она неудержимой мощной волной. Через месяц я осталась здесь одна.
Мне предлагают продать дом и перейти на государственное обеспечение. Не знаю. Возможно, стоит это сделать…
«Дорогая Соня!
Долго не писала тебе. Последнее время просто не было сил сесть за компьютер и привести в порядок мысли.
Во-первых, бабушку похоронили так, как она и просила, – без сообщений в газете, без помпы и любопытных взглядов незнакомых людей. А своих было мало. Приехал из Америки Макс. Была фрау Вера.
Ты просила рассказать подробности, но их немного: в день похорон собрались у капеллы. Каждый сделал запись в книге соболезнований, расселись в первом ряду. Почти не общались. Вышел пастор. Его речь была довольно расплывчатой, такой, какая бы подошла каждому второму, – «добропорядочная», «законопослушная», «отзывчивая», «пусть покоится с миром» и так далее.
Что он мог знать?
Что она оплатила все расходы, чтобы Оксану могли похоронить на родине? Что дала деньги Максу на его поездку в Штаты и отказалась принять долг? Что первые твои успехи на международных выставках – с ее подачи?
Не думаю, что кто-то об этом должен знать, кроме нас.
Итак, бабушку похоронили с миром. Когда приедешь – сходим к ней вместе.
Твой цветник превратился в заросли – полно диких цветов, лезут из-под земли, как бешеные.
Ну, не будем о грустном…
Дорогая Соня! Хочу написать о многом – большое, длинное письмо, чувства переполнили меня до той черты, когда хочется выплеснуть их, затопить весь мир своей благодарностью к тебе. К тебе и твоему мужу, мистеру Риду.
Если бы не вы…
Не представляешь, как я тебе благодарна, что ты разыскала меня в Америке. Знаю, ты скажешь, что только выполняла просьбу бабушки, но ведь – ты могла и не искать меня…
Я давно привыкла, что в этом мире – каждый за себя. Всегда чувствовала себя одинокой. До того момента, как увидела тебя в своей комнате в университетском городке под Берлингтоном. Помнишь?
До сих пор стыдно за разбросанные вещи, пустые банки из-под пива и табачный запах – и это на фоне подстриженных газонов ухоженной окружающей территории.
В наши комнаты никогда не заглядывает профессура. А тем более – гости или посетители.
Я была недовольна тем, что кто-то видит этот беспорядок, и разнервничалась.
В общем, прости, что не сразу не была с тобой приветлива. Не хотела ничего знать.
Издавна меня преследует чувство, что живу (точнее – жила) в плотно запаянной жестянке, замкнутая в себе и в пределах того пространства, в котором все время находилась – за забором кампуса, где геометрические формы безупречно подстриженных газонов и клумб, аккуратных корпусов и неискренность отношений вполне соответствуют этому состоянию.
Наверное, поэтому, из чувства противоречия, устраивала такой беспорядок на той территории, которая временно принадлежала мне – в казенной университетской комнате. Ведь хоть что-то в этом мире должно быть создано для меня?!
А я этого никогда не чувствовала!
Моя мать говорила, что бабушка обманывала нас всю жизнь – и я представляла себе, что все, что связано с «фрау Шульце», – лживо и даже враждебно. С детства, в качестве самого большого упрека, когда я не слушалась или делала какие-то гадости, мне говорили, что я пошла в своего деда. Но не в того, чей портрет стоял у матери на столе – почтенного господина во фраке, а в какого-то «другого» – из «дикой страны», «чужака», который «купил бабушку за кусок хлеба». И тем самым лишил нас «чистоты аристократической крови».
Всю жизнь мне хотелось расплести этот клубок.
И ты стала первой «ниточкой», за которую я ухватилась. Хотя, повторяю, мне до сих пор досадно, что встретила тебя и мистера Рида неприветливо. Теперь ты знаешь почему. А я знаю, что ты знаешь. И от этого легче на душе…
Настоящая симпатия возникла после того, как я увидела твою выставку в Нью-Йорке.
Это было невероятно! Я не большой знаток искусства, но в твоем серебряно-стеклянном мире я прожила несколько прекрасных часов и поверила тебе окончательно.
Ты сказала, что жизнь порой завязывает интересные узелки. Рассказала, как жила в том приюте – такая же «законсервированная в себе», как и я.
Уговорила приехать к бабушке.
Я ехала с опаской.
А если быть честной – со страхом. У меня с миром и без того сложные отношения, чтобы добавлять к ним еще более сложные.
Мало кто понимает меня, ведь все теперь стремятся быть «людьми мира». А я думаю, что таким человеком можно стать только в том случае, когда точно знаешь, кто ты и откуда пришел. Вот этого я о себе и не знаю. Это удручает. Это все равно, что от рождения жить в приюте и не знать, как ты появился на свет.
Если мой дед из ваших краев, значит, во мне есть часть вашей крови, но вторая часть – немецкая. Но ни там, ни там я никогда не была, ни того, ни другого языка не знаю (разве что мать иногда говорила со мной на немецком).
Кто мой отец – так и не узнала. С той поры, как себя помню, у меня было несколько отчимов, с которыми мама время от времени навещала меня в частной школе, а потом – в колледже.
На вопрос об отце неизменно отвечала: «Какая разница?» Странная позиция, которую я не могла осмыслить до конца. Возможно, таким образом она мстила бабушке, которую так и не простила. Всегда называла себя «фон Шульце», добавляя – «баронесса». Это смешило меня.
Но, по крайней мере, у нее была родина – якорь, с которого можно сняться в любой момент, а можно просто удлинить его цепь. Главное – знать, что он есть. Пусть даже и на большой глубине.
Видимо, родина – это то, что любишь и из-за чего страдаешь?
До Берлингтона мы жили в Цинциннати, собственно, там я и родилась. Но люблю ли я этот промышленный город?
Хотела бы вернуться? Наверное, нет. Плохо его помню. Те воспоминания для меня будто покрыты серой пеленой, висевшей над нашим кварталом.