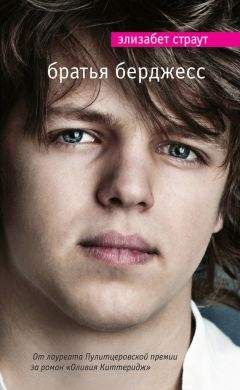Хлопнула кухонная дверь.
— Обожемой! — сказала Конни, когда Тайлер вышел в прихожую. — Ветер захлопнул дверь, как раз когда я вошла. Ветер на улице крепчает.
— Ну, Конни Хэтч, — произнес Тайлер, — ужасно рад вас видеть.
В классной комнате, на верхнем этаже Эннетской академии, Чарли Остин вел урок латыни и вглядывался в лица своих учеников. Тоби Данлоп не выполнил домашнее задание и теперь, после того как Чарли вынудил его признаться в этом, сидел, низко наклонив к парте голову. Другие ученики сидели развалившись на своих местах, лишь немногие поднимали глаза на Чарли. Однако его молчание вызывало у них неловкость, и они перестали шуршать бумагами, листать тетради, девочки бросили подтягивать гольфы. Они переводили одну из од Горация. «Можно ли меру иль стыд в чувстве знать горестном при утрате такой? Скорбный напев в меня, Мельпомена, вдохни…»[56] — и оттого, что ученики проявляли так мало интереса, Чарли хотелось подойти к окну и кулаком разбить стекло. Он часто испытывал симпатию к этим детям, к их юному невежеству, к их вежливому, почтительному желанию сделать ему приятное. Ему порой хотелось — насколько он вообще был способен чего-то хотеть — передать им красоту этого языка, поэзии давних веков, которая могла бы как-то ответить их зарождающимся запросам.
То, что в этот ветреный осенний день ребята оказались не способны слушать, что он им говорил, то, что фактически не только Тоби Данлоп не потрудился закончить домашнее задание, вызвало в памяти Чарли сцены насилия: взрыв — полевой склад боеприпасов взлетает на воздух, свистят осколки стекла…
— Урок окончен, все свободны, — произносит Чарли и получает крохотную толику удовольствия от воцарившегося в классе тихого изумления при его словах. — Я говорю серьезно. Убирайтесь отсюда. Я не могу учить вас, если вы не выполняете свою часть работы. Так что уходите. Расходитесь по домам, сидите в своих машинах, отправляйтесь куда угодно. А мой урок окончен.
Он собрал свои книги и вышел.
В библиотеке он подошел к большому словарю и нашел там «нервный срыв»: «…любое ограничивающее дееспособность расстройство психики, требующее лечения». Чарли долго смотрел на эту статью, взяв словарь с собой на диванчик в эркере. Миссис Уайт с улыбкой смотрела на него из-за своей конторки.
«Требующее лечения» — это все упрощало. Он знал коллегу — ветерана войны в госпитале Тогаса, который перенес шок, так они там засунули ему в рот кусок резины, включили ток, парень обгадил все вокруг, а теперь просто сидит целый день в инвалидном кресле. Чарли давно перестал его навещать. Нет, никакого лечения не будет.
Чарли принялся размышлять над другими словами. «Расстройство психики». Да весь мир страдает расстройством психики. Самыми опасными показались ему слова «ограничивающее дееспособность». Он представил себе инвалидное кресло, себя, сидящего в нем с упавшей на грудь головой. Здорово, просто проклятье какое-то, до чего страшно. Он пролистал страницы словаря, нашел «ограничивать дееспособность»: синонимы — «лишить возможности, обессилить, искалечить, вывести из строя»; или (2) «ограничить в правах, дисквалифицировать, сделать нетрудоспособным». Итак, расстройство психики, которое выводит его из строя. Что означает, подумал Чарли, закрывая словарь, что просто надо дальше жить как живется. Он кивнул миссис Уайт на прощанье.
Солнце в это время года заходило очень быстро. Оно на минутку задерживалось на горизонте, а потом огромным камнем проваливалось куда-то вниз. Чарли сел в машину и поехал домой. При виде светящихся окон дома он чуть было не разрыдался: он понял, что, если когда-нибудь он уйдет отсюда, этот образ, представший сейчас перед ним, — маленький серый дом с белыми ставнями, с кустами можжевельника по бокам, с голубой елью у крыльца, — этот образ никогда не перестанет его преследовать.
— Дорис! — крикнул он, войдя в дверь. — Дорис!
Старший сын смотрел телевизор. Чарли прошагал мимо — на лестницу, поднялся в спальню. В спальне стояла Дорис.
— Ты думаешь, я не знаю? — сказала она.
Губы ее были совершенно бесцветны, и он почувствовал, что его словно облили ведром холодной воды: он едва устоял на ногах. Дорис резко откинула одеяло и простыню и показала пальцем:
— Ты полагаешь, я тебя не слышу? Думаешь, я не знаю, что ты не спишь и что ты делаешь по ночам, лежа прямо тут, рядом со мной? Сначала я думала — ну ладно, это с ним случилось во сне, никто ничего со своими снами поделать не может. Но потом я стала проверять каждое утро, и каждое утро — новое пятно, и я стала стараться не заснуть, лежала без сна, притворяясь, что сплю, и могла тебя слышать. Я прошлой ночью тебя слышала, Чарли, и сегодня рано утром. Ты что, извращенец, Боже упаси? Неужели, Чарли?
— Дорис, пожалуйста, потише.
— Я прекрасно понимаю, что ты вовсе не обо мне думаешь, когда делаешь это. О ком ты думаешь?
— Дорис. — Он все еще стоял в дверях, в пальто и с портфелем в руке.
Она сделала шаг в его сторону:
— Я не могу отхлестать тебя по щекам — дети внизу. Но я хотела бы хлестать тебя до тех пор, пока ты не свалишься с ног.
Она пошла за ним, когда он попытался двинуться прочь, и толкнула его изо всех сил.
— Господи, Дорис, — пробормотал он, согнувшись и присев, — пожалуйста, прекрати!
Тайлер не занимался обращением неверующих — это не входило в его обязанности, и то, что Конни много лет не посещала церковь, не являлось одним из тех вопросов, которые он мог бы ей задать. Он очень удивился, когда как-то утром Конни спросила его: «Почему Христос велел нам любить наших врагов?» Она только что отрезала два толстых ломтя кофейного кекса, который стоял в противне на столе между ними. Облизала нож и подняла глаза на Тайлера.
Морозный узор, похожий на крохотные снежинки, нарисовался по всему оконному стеклу, дул ветер, так что даже при вставленной зимней раме в кухонное окно задувал зябкий сквозняк. Конни положила нож и пониже натянула манжеты шерстяного свитера.
— Потому что нам очень легко любить своих друзей.
Конни откусила большой кусок кекса и прижала кончик пальца к коричневому сахарному песку, оставшемуся на тарелке.
— А мне — нет, — возразила она. — Мне было трудно любить своих друзей. А теперь их у меня не так уж много.
Тайлер внимательно смотрел на нее.
— Я им завидовала, — объяснила она, слизывая сахарный песок с пальца. — У них есть дети, есть свои дома, и у некоторых даже есть свекровь, которую можно вытерпеть.
Тайлер кивнул.
— Когда я была совсем девчонкой, — продолжала Конни, — я знала одну очень толстую женщину. Однажды она призналась мне: «У меня внутри живет тоненькая, красивая девушка». — Конни откусила еще кусок кекса. — А потом эта женщина умерла, — добавила она, вытирая крошки с пальцев.
Тайлер тихонько поставил на стол свою чашку с кофе.
— А у вас внутри живет мать?
— Точно, — ответила Конни. — Точно, как у той толстой женщины. А потом я умру. — Конни покачала головой. — Я столько мечтала о тех детях, мистер Кэски! Мне практически мерещилось, что они настоящие, реальные. Джейн и Джерри. Это их имена. Хорошие детки. Послушные.
— Мне всегда нравилось имя Джейн, — сказал Тайлер.
— Ага. — Конни вытерла нос бумажным платком. — Я жила в мире грез.
Священник взглянул в окно.
— Думаю, с людьми это часто случается.
— Иногда я никак не разберу, что правда, а что нет. Что мы сделали, а чего не сделали. Ум — странная штука, верно?
— Да.
— Похоже, нам приходится придумывать всякое, чтобы как-то продолжать жить. Притворяться, что мы сделали то или не сделали это.
Он снова посмотрел на нее, на ее мокрые глаза, а она улыбнулась ему и вроде бы даже подмигнула.
— А какие мечты помогают вам жить? — спросила Конни.
Тайлер отодвинул свою тарелку с кофейным кексом, откашлялся:
— О, я иногда сейчас мечтаю о том, чтобы поехать на юг, помогать там священникам в работе с неграми. Они организуют сидячие демонстрации против расовой дискриминации в дешевых магазинах, куда не пускают негров.
— Я знаю, я видела снимки. Но иногда этих людей избивают. Иногда священников даже отправляют в тюрьму. И вы бы все равно хотели это делать? Обожемой! По мне, так лучше умереть, чем в тюрьму сесть.
— Ну, я же не сумасшедший, чтобы в тюрьму стремиться, — признал Тайлер. — Но это очень хорошее дело.
Конни кивнула, глядя на свою чашку с кофе.
— Ну, я уж точно стала бы о вас скучать, — сказала она.
«…от избытка сердца говорят уста».[57]
— Да, — сказал Тайлер. — Но думаю, вам нет нужды беспокоиться. Я же никуда не еду. У меня некому заботиться о детях, и, кроме того… — Он высоко поднял брови. — По правде говоря, Конни, я по уши в долгах. Так что я отсюда никуда не двинусь довольно долгое время, и, если церковь прибавит мне немного долларов, я смогу дать вам работу на полную ставку. Если у вас не пропал к этому интерес.