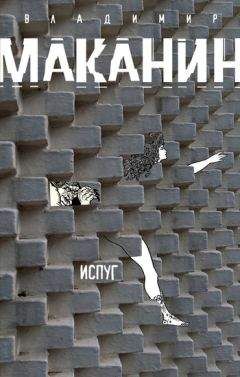И после некоторого заслуженного мной отдыха все началось снова:
– Скажи, скажи еще. Скажи что-нибудь…
– Что? – Я не знал. (Пытался вспомнить.)
– Ну-уу?!. – Она вспылила. – Что? Опять облом?!
Негодовала! Красивая свежей, смелой, ничуть не ханжеской красотой. Она ждала нарастания! Это естественно!.. Но я-то оставался прежний. Я за ней не поспел. (Я так и задержался в тех двух лунных ночах. Я там жил. Я там застрял.)
Она улыбалась:
– Молчишь?.. Почему?
А я все еще протягивал боржоми, чтобы утолить жажду той Вики… То чувство… Та луна… Бутылка с боржоми (мысленная) все еще холодила мне руку. Стекло мерцало.
Она улыбалась:
– Почему молчишь?.. Ну, для разбега… Как ругался той ночью! Для начала скажи что-нибудь.
– Что?
– Скажи. Я, мол, тебя сейчас…
И она сделала ощутимую паузу ожидания. Ждала.
– Я…
Она шла навстречу, она помогала:
– Я, мол, тебя сейчас…
– Отдрючу? – Старый мудак не нашел сказать ничего лучше.
– Фу!
Я почувствовал на лбу испарину. Бедная моя лексика!.. Да что же такое! Да как же ей сказать?
– А ты придумай. А ты смелей… А для чего тогда фантазия?
– Матом… выругаться, что ли?
– Фу, фу!
И, уже поворачиваясь, уже в излюбленной ею позиции, она насмешливо на меня покосилась:
– Ну-ну, говори что-нибудь. Развяжи фантазию! Придумай!.. Сколько слов!
И сердилась:
– Тысячи же слов! Тысячи, когда человек хочет сделать другому приятное!.. А ты?.. Не будь же убогим трахальщиком, ну, веселей! Веселей!.. Неужели придется тебя учить, Петр Петрович!
Она и в третий раз хотела слов. Я уже думал – сойду с ума.
В любимой боевой позе, вся готовая к действу, она зазывно улыбнулась. Повернув ко мне красивую голову!.. Еще и передернула выставленной в мою сторону попкой. И метнула глазами маленькие бешеные искорки. Ух, какая!
И этак снисходительно (не сердясь) объясняла:
– Для разбега скажи так: я тебя затрахаю.
– А?
Посерьезнела:
– Ты, Петр Петрович, второй раз говоришь: А?.. Ты что-нибудь умнее сказать можешь?
Объясняла:
– Медленно мне скажи: Я… ТЕБЯ… ЗАТРАХАЮ. А я мысленно это себе представлю. И напрягусь. И взволнуюсь. Ты понял?.. Слова очень и очень на женщину действуют. Возбуждают… Ты не знал?
– Когда я должен сказать?
– В начале.
– В самом-самом начале?
– Темный какой! Ей-богу!.. Прежде… Ну, ты же понял – прежде! Прежде чем вставить. Слова, давай, слова!.. Скажи: я сейчас тебе вставлю.
– Я и так вставлю.
– Само собой… Но ты скажи. Ты произнеси. Медленно и с этакой, мол, подначкой: СЕЙЧАС… Я… ТЕБЯ… ЗАТРАХАЮ.
– А?
– Блин! Ты что-нибудь слышишь? Ты соображаешь?!.
Она сердилась. А я как онемел. Тупость в мыслях… И тяжко, чугунно неповоротливый язык.
– Я ж тебе объяснила. Петр Петрович! Ты как с дуба рухнул!.. Сколько мне еще стоять на четвереньках?!
Я тоже разъярился:
– Так давай же!
– Э, нет. Сначала ты скажи… Говори медленно… Очень медленно…
Из идиота – хоть что-то хотелось выжать.
Однако чем ближе (чем темнее) к ночи, тем меньше Вика требовала – тем меньше на меня давила. И тем вольготнее я себя чувствовал. (Я припомнил наше с ней прошлое!.. Ночью-то ей слова были не так обязательны. Ага!)
И вдруг я раскололся – выдал ей себя и свою прошлую воровскую ночную влюбленность (а не хотел!). Я все выложил… Намолчавшийся!
Я выболтал, как из-за нее мучился. Ночь за ночью… Как кружил и кружил лунными дорогами возле ее дачи. До изнеможения.
В четыре утра, намаявшись, по пустынной поселковской улице… Возвращался я тогда настоящим инвалидом. Подагриком!.. Левое колено не сгибалось. Да и правое сгибалось не очень. С прямой ногой. С обеими прямыми… Намучавшийся за ночь старик выглядел при таком шаге вполне торжественно. Парадно!.. Если, конечно, издали… Я мог бы нести венок. (На виду у толпы.)
– Так ты, Петр Петрович, не ошибся! Не ошибся той ночью! – Она смеялась, она счастливо смеялась. – А ведь врал! Врал!
Вика заметно подобрела, когда мой язык ожил. В принципе она уже согласилась на слова подоступнее и попроще. (Люди хотят ладить.) Смягчилась:
– Да хоть что-нибудь. Хоть простое!.. Ну, скажи: трахну… ну, оформлю. Ну, вгоню кол.
– Вика… А если я один раз молча?
– Дразнишь?
– Ладно, ладно. Что именно ты хочешь?.. Вгоню кол. Трахну.
– Только не так вяло.
Мы вышли в сад к колодцу. Уселись там на могучее бревно. Когда уже совсем-совсем стемнело… Курили медленно. Вика дурачилась, крутя и лаская мне ухо свободной от сигареты рукой.
А я на прохладной колодезной крышке нащупал кружку. Крупная, старомодная – на цепочке, конечно. Цепка длинная и нетяжелая. Кружка погружалась в воду медленно. Можно было вести счет. Я сравнивал… Кружка уходила в глубину… А луна (на тот же счет) выходила из мглы.
Я выпил половину этой огромной кружки. Глоток за глотком – не отрываясь глазами от ночного неба. От выползающего желтого светила.
Когда вернулись к постели, я явно повеселел… Постель имеет свой почерк! При луне… Я легонько подтолкнул туда Вику. В дачной постели всегда присутствует деревенская поэтика: всё как попало разбросанное! Как легкая озерная рябь.
Однако радость нашей ночной и молчаливой (без единого слова! наконец-то!) любви была недолгой – разве что полчаса.
Зазвонил телефон. Нелепый такой дребезжащий ручеек звука. Вика взяла трубку. Лежа…
– Ага-а! – протянула она легким (и лишь чуть неправдивым) голосом. – Уже едешь. Ага!.. Уже свернул с шоссе? Отли-ично!
Мы лежали бок о бок. Она шевельнулась… Нагая, прохладная, только-только остывшая после близости. «Борис», – шепнула мне.
Я кивнул. Я и сам сообразил.
– Ага-а! Сварить тебе кофе. Черненького? Без капельки молока?.. Отли-ично! – пела она ему в трубку. Чуть неправдиво (опять же), но с задором и с отвагой.
Поскольку я молчал, Вика легонько толкнула меня локотком в бок. Может, я не все понял?.. Подтолкнула мою сообразительность. «Это он… Подъем, Петр Петрович!» – шепнула. И для начала перемен сама первая села в постели.
А затем Вика встала. Нет, нет, никакой спешки. Она легонько зевнула – и пошла к плите, чтобы сделать любимому человеку кофе. Он войдет, он с порога – а кофе уже горяч.
Она еще говорила ему:
– Ну, всё. Жду. Пока… Иду, иду к станку! – и передала трубку мне, мол, дай отбой. И подмигнула.
Последнее, что я видел (я уже одевался), – как красивая голая женщина готовит кофе, стоя спиной ко мне у плиты.
Когда Вика подмигнула, была в этом кой-какая насмешечка над подъезжающим и торопящимся к постели Борисом. (К еще дымящейся постели.) Но женская смешинка не была ему или мне обидной – была человечной. Все, мол, мы люди!.. Я это ясно видел. Шепотком еще раз напомнила мне: «Положи. Положи там трубку».
Убавила пламя до малого… Доставая банку с кофе, ложечку, сахар, то да сё, она легко перетаптывалась, шаг туда, шаг сюда… И все время невольно играла ягодицами. Как бы гримасничала. Стоя у плиты… Спиной ко мне. Так и подумалось, что ниже поясницы открылось ее второе лицо.
Это подвижное лицо хихикало в равной мере… И над Борисом… И надо мной… И над самой Викой. (Над первым своим лицом.) Это было опять же совсем не зло. Это было равнодушно. Ах, мол, сколько суеты. Ах, мол, люди-людишки!.. Равнодушно… Второе ее лицо всё о нас троих знало и посмеивалось.
Приняв из Викиных рук, я аккуратно переправлял телефонную трубку через постель к столику. (Трубка должна быть на своем месте. Чтобы дать отбой.) Я как раз нес трубку в руке. А Борис еще договаривал последнее. Он жарко и басовито пророкотал мне в самое ухо:
– Сейча-ас… Сейча-ас я тебе каааааа-аак вста-аавлю.
Я даже выронил трубку.
Два старика, мы с Гошей случайно встретились в вагоне полупустой грохочущей электрички.
– Живешь на этой станции? – спросил он.
– Ну да.
– Дачный поселок?
– Что-то вроде. – Я засмеялся.
– А чего в Москву?
И, не дослушав, чего это я еду в Москву, он стал звать к себе, он, мол, в Москве живет совсем рядом с вокзалом – сейчас же и зайдем, посидим-поболтаем, столько лет не виделись!
Гоша – мой когдатошний сокурсник и приятель, а ныне, конечно, пенсионер… Гоша Гвоздёв… Мы болтали и после, всю дорогу, оказавшись в вагоне нечаянным образом рядом. Болтали, когда шли к нему домой. Болтали и дома, когда прикидывали, как нам удобнее в его маленькой однокомнатной квартире рассесться. Да, да! Как нам сесть?.. Стул на выбор?.. Или кресло?.. Я взял стул.
В тесноватом, но вполне опрятном логове одинокого пенсионера мы (уже на кухне) рассаживались не столько относительно друг друга, сколько относительно телевизора. Гоша великодушно предлагал мне к зрелищу поближе!.. Сели… Всё еще болтали. Зато, как только экран высветился, наступило наше великое молчание. Удивительно! Мы с ним промолчали несколько часов кряду. (Лишь иногда о чем-то вскользь и кратко. Два-три слова… Не больше.) Смотрели расслабленно на экран. Смотрели восторженно! Весь наш вечер.