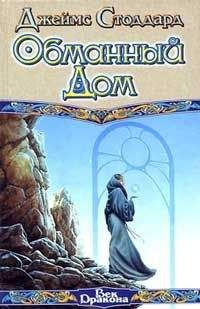Вот что они там орут? «Фашизм, фашизм…» Это они мою пьесу «Пробка» обсуждают. Простая и трогательная история. Девушка всю жизнь копила на машину. Купила в кредит. В пробке пьяный пенсионер-пешеход разбил тростью лобовое стекло. Девушка засунула трость ему в анальное отверстие, отчего он скончался. От пожизненного заключения девушку спас известный адвокат, продвигающий закон о стерилизации людей по социальным показаниям.
Патриотичнейшая, человечнейшая история. Я вообще специалист по красоте и нежности. Но в данном случае — автор остросоциального высказывания. Мне за эту пьесу даже премию дали.
Чего они орут?
Да пусть орут, это же хоть какие-то эмоции, потому что если зрители не чувствуют в театре ничего — ни восторга, ни ужаса и гнева — то это уже не театр, это какое-то организованное платное скучание на триста — тире — пятьсот персон. Непонятно тогда, зачем встретились зрители и актеры.
Пусть они орут, а я пока историю про речку писать буду.
Потому что все-таки надо, ведь речка ждет.
И хочется.
Хочется попробовать успеть объяснить…
(Безличное предложение с составным глагольным сказуемым.)
А когда я напишу эту историю и брошу флэшку в речку — вот, обещание выполнено, читай, речка, тут про тебя написано, — когда допишу, Округа изменится окончательно и непоправимо, речка умрет «насовсем», станет вонючим оврагом, вместо моего дома будет платная скоростная трасса в братскую Беларусь или просто спортплощадка наших армянских соседей, наступит полный «досвидос», и надо будет уйти отсюда, уйти тихо-тихо, но перед уходом останется только разобраться с лесом, покончить с ним, омрачить, осквернить, отяготить лес, так чтобы никто туда и носа не казал, ведь там случилось такое…
Такое…
И прокуренный следователь с худым и нервным лицом будет недоумевать — что же это за убийца такой? Что за неумеха? Ну, кто так убивает? Только безручь какая-то, из тех, что в детстве не умели пеленать пупсов и плести веночки из одуванчиков…
Ночь.
Протяжно гудит затерявшийся в небе самолет. Гудит все тем же самым голосом, как тогда, как раньше, как будто это тот же самолет, над тем же домом с теми же людьми…
На дачах спят.
Таджикам снятся велосипеды.
На «хитрой даче» не спится Зое Константиновне.
— Предатель, диссидент паршивый, лентяй, бездельник, пьянь, изменник Родины, Костик, сынок…
Она встает накапать сердечное.
Призрак большевика Литвина-Седого шуршит по саду, хрустит ветками, собирает крошки пирога со стола под березами.
Видит Сироту на крылечке, с компом на коленях.
«А завели бы своевременно щенка, может, никакого сочинительства бы и не было…» — сокрушается привидение, товарищ Иголкин.
Уходит, шурша.
«Приезжай, Костик, — цокает клавиатурой Сирота. — Мы с тобой пойдем в лес. Не в тот огрызок, который остался, а в наш, настоящий, в бывший лес. Мы проберемся, прорвемся, не думай. И когда сторож нашего бывшего леса, старичок-лесовичок, леший в черной форме, срежет нас автоматной очередью, мы маленькими, десятилетними, поскачем на велосипедах по коричневой дороге с лужами — в поле, навстречу ромашкам и землянике…»
На дачах ночь…
Просыпаешься от ужаса — суббота, приедет мама!
Ну все, капец.
Наверняка будет мною недовольна, эта идиотка Ирина Ивановна наябедничает… И начнется…
Вот было бы здорово, если бы она не поверила этой дуре! Если бы сказала — перестаньте говорить гадости про мою дочь. Убирайтесь вон отсюда…
Да, вот было бы счастье, если бы мама хоть раз оказалась бы на моей стороне.
Вряд ли такое будет… Лучше даже не мечтать…
Но с мамой надо поговорить про сто двадцать седьмую школу, мне пора туда переходить, все мои друзья уже там.
Значит, надо испечь для мамы пирог, купить черную смородину, перетереть с сахаром, вот и начинка, а тесто делать я умею из муки, молока и сметаны.
Мамочка, вот тебе пирожок, это я, хорошая девочка Ксюшенька.
Да, пирог будет очень кстати.
Вывожу из дома «Салют».
Чужой дядька заходит в сад. Ищет работу. Высокий, сивые, желто-седые волосы и красная физиономия. Разговаривает очень вежливо и по-городскому, не как деревенский или фабричный.
— Приходите завтра с утра. Сейчас никого из взрослых нет…
Уходит.
«Нарисовывается» Ирина Ивановна, похожая на пожилую, обрюзгшую кенгуру.
— А я, по-твоему, кто? Или ты меня уже за человека не считаешь?
— Ну, вы же не хозяйка. Вы же не знаете, что надо сделать на участке.
— Конечно, я не хозяйка, я вообще неизвестно кто, готовая ради лета на свежем воздухе терпеть все эти издевательства…
«Дура ты чертова, кенгуру облезлая», — мысленно объясняю ей я и уезжаю.
Она вопит мне вслед.
Ягоды продают старушки на рынке у автобусной остановки. Они продают и грибы, и овощи, и зелень. Удобно, что можно подъехать прямо на велике и все купить, не слезая, и не надо оставлять велосипед у входа в магазин. Ха-ха, только поди оставь!..
С пакетом черной смородины одной рукой рулю обратно. У мостика резко тормозит белая машина. За рулем Миша Журавский, рядом — Катя.
— Ух ты, Миша, ты на машине теперь!
— Денег заработал. И зачем-то сказал об этом Кате, благочестивый супруг-дуралей…
Катя смеется, прелестно щуря раскосые карие глаза. У нее длинные, явно не покупные, а «авторские» серьги. Она опять беременна.
— Третьего ждем. Катя с маниакальным упрямством утверждает, что будет девочка. И вот вечно начинается это скупание по двадцать пар колготок, эти заходы в универмаг и невыходы оттуда по три часа… На сдачу от колготок еле-еле машину купил. Ты к нам приходи, у нас друзья гостят, рыбу свежую привезли, на гитарах здорово играют — выпьем, рыбки поедим, музыку послушаем…
Мчусь домой, под возмущенный бубнеж Ирины Ивановны быстро готовлю тесто и начинку. Печь пирог так здорово, так, как сказали бы теперь, «терапевтично», что на занудства этой уродины просто не обращаешь внимания. Не слышишь их.
У меня сметана, мука, молоко — все белое. Деревянная скалка. Деревянная колотушка и миска, чтобы перетереть смородину.
И вот уже пирог «спит» под льняной тряпочкой, лежит и пахнет на весь дом…
Еду на велике к Мише. Катя со вторым сыном Васей на руках встречает меня. От нее вином пахнет. Гости — бородатые молодые люди разводят костер.
Захожу в дом. Миша за столом с тушью, лупой и шприцем колдует над какими-то бумажками.
— Что ты делаешь?
— Да вот, права себе подделываю.
Позже у Довлатова, в книжке про зону, увидела — «фальшивомонетчик Журавский». Это точно, «стопудово» какой-нибудь Мишин родственник.
Пожарили рыбу, послушали песни Хвостенко. «Под небом голубым есть город золотой».
Ни о каком БГ тогда никто еще слыхом не слыхивал.
Миша и Катя с детьми прогуливаются, провожают меня. Впереди, на перекрестке Восточной и Центральной, маячит кто-то из великих, Бондарев или Бакланов.
Мы приближаемся к великому, и, поравнявшись с ним, Миша вдруг обращается к нему встревоженно и жалобно:
— Юрий Васильевич! Ну вы же писатель, вас люди слушают, ну скажите вы Кате, жене моей, ну чего она мне не дает?..
И Юрий Васильевич (вариант — Григорий Яковлевич) гневно наливается краской и молча идет своей дорогой.
Любимый Мишин прикол!
С такими вопросами лучше было бы обратиться к тете Вике Токаревой, настоящему воспевателю, видному теоретику и практику межполовых отношений…
Оказавшись за одним столом с некоей пожилой красивой дамой, Миша весь вечер ухаживал за ней, лимонничал-миндальничал, целовал ручки, подливал вина.
— Миша, вы так мило за мной ухаживаете, — растаяв, заметила дама.
— Антиквариат — моя профессия! — очаровательно улыбнулся ухажер.
Мама приехала!
— Ну, как ты себя вела?
Ирина Ивановна взахлеб жалуется на меня — я грублю, посуду мою только после третьего напоминания, вчера ушла кататься на велосипеде и опоздала на два часа, словом, она больше со мной не останется и вообще идет собирать вещи.
Оправдываться бессмысленно. Взгляд у мамы становится как у чужой. Как у злой учительницы.
— Ты должна быть благодарна… Почему я должна за тебя краснеть, должна выслушивать это?!.
Ну и не выслушивала бы. Сказала бы этой радиоманьячке: «Перестаньте говорить гадости про мою дочь, лучше расскажите-ка, как вам удалось слопать за один вечер всю черешню, привезенную для нее. Идете собирать вещи? Ну и валите отсюда, а Ксюша поедет со мной в Москву».
Я так хотела жить летом в Москве, чтобы быть поближе к маме.
— Не смей ко мне подходить. Я с тобой не разговариваю. Мне все это надоело. Сдам тебя в интернат.
Она уходит к себе, на второй этаж.